Он стоял, смотрел, но Яков ждал, пока снова он отойдет.
— Дай сюда признание, — сказал Рейзл по-русски.
Рейзл ему подала конверт. Яков достал бумагу, развернул, прочел: «Я, Яков Бок, признаюсь, что был свидетелем убийства Жени Голова, сына Марфы Головой, моими еврейскими соотечественниками. Они убили его ночью, марта 20 дня, 1911 года, в помещении над конюшней в кирпичном заводе, что принадлежит Николаю Максимовичу Лебедеву, купцу в Лукьяновском околотке».
И под этим под всем проведена жирная черта, и там надо подписать свое имя.
Яков положил эту бумагу перед собой на полку и над чертой для имени написал по-русски: «Все ложь до единого слова».
На конверте, запинаясь между словами, вспоминая буквы для следующего слова, на идише он написал: «Признаю себя отцом Хаима, малолетнего сына моей жены, Рейзл Бок. Он был зачат до того, как она меня оставила. Прошу, помогите матери и ребенку. И за это, среди всех моих скорбей, я буду вам благодарен. Яков Бок».
Она сказала ему, какое сегодня число, и он внизу приписал — «27 февраля 1913 года». И просунул ей конверт через отверстие в решетке.
Рейзл сунула конверт в рукав пальто, а бумагу с признанием отдала часовому. Он сразу сложил бумагу, сунул в карман. Проверил содержимое сумочки, охлопал Рейзл по карманам, велел ей идти.
— Яков. — Она плакала. — Ты возвращайся домой.
1
Снова приковали его цепями к стене. Плохо. Лучше бы не снимали эти цепи, плохо, когда их надевают опять. Он колотил гремящими цепями об стену, пока вся она не покрылась белыми шрамами в том месте, где он стоял. Никто не мешал ему колотить. В остальное время он спал. Если бы не обыски, он бы целый день спал. Спал смертным сном, ноги в колодках. Весь конец зимы он проспал и начало весны. Кожин сказал, что уже апрель. Два года. Обыски продолжались, если только он не страдал поносом. Тогда старший надзиратель не приближался к нему, правда, Бережинский и один, бывало, его обыскивал. Однажды, после болезни мастера, камеру помыли из шланга и затопили печь. Румяный старичок вошел в камеру во всем зимнем. Черная шапка, черные гетры, сучковатая трость в руке. Бережинский, войдя следом, внес легкий стул с тонкой спинкой, и старичок очень прямо на него уселся в нескольких шагах от мастера, обняв трость серыми митенками. Блуждал слезящийся взгляд. Он прежде был адвокатом, он сообщил Якову, очень известным адвокатом, а сейчас вот принес хорошие новости. Волнение, густое, как тошнота, подступило к горлу Якова. Он спросил, что за хорошие новости. Бывший адвокат сказал, что в этом году будет трехсотлетие дома Романовых и в честь юбилея царь выпустит указ о помиловании определенного рода преступников. Среди них может оказаться имя Якова. Его простят, ему разрешат вернуться в родное местечко. Лицо у старичка рассиялось от удовольствия. Узник вцепился руками в стену, он не мог говорить. Потом спросил: простят как преступника или простят как невиновного? Бывший адвокат спросил раздраженно: какая разница, если его выпустят на свободу? Невозможно стереть грехи прошлого, но для гуманного правителя, истинного христианина, разве невозможно простить дурное деяние? Старичок чихнул без понюшки, глянул на свои серебряные часики. Яков сказал, что хочет справедливого суда, не помилования. Если ему прикажут покинуть эту тюрьму без суда, придется сначала его застрелить. Что за чушь, сказал бывший адвокат, как можете вы и дальше так страдать, сидеть в этой выгребной яме? Мастер нервно дергался на цепях. У меня нет выбора, он сказал. Но я же только что вам его предложил. Это не выбор, сказал Яков. Бывший адвокат взялся терпеливо убеждать заключенного, потом не выдержал. Легче тупого мужика убедить. Он встал, ткнул в мастера тростью. Как мы можем вам помочь, заорал, когда вы так по-идиотски уперлись? Бережинский, подслушивавший у глазка, отпер дверь, и старик удалился. Стражник зашел за стулом, но, прежде чем его унести, дал Якову помочиться в урыльник и потом опрокинул содержимое ему на голову. С мастера и на ночь не сняли цепей. Как решишь, что хуже ничего уже быть не может, думал мастер, так и пожалуйста, будет тебе еще хуже.
Однажды, когда уже шел третий год его заточения, с Якова сняли кандалы и наручники. Сердце у него тяжко заколотилось, он прижал руку к груди, и рука заколотилась, как сердце. Через час смотритель — он постарел, с тех пор как Яков в последний раз его видел, и странно семенил — принес новое обвинение в грубом конверте, пачку вдвое толще прежней. Мастер взял бумаги и принялся читать медленно, замирая от нетерпения, боясь, что никогда он не дочтет этого до конца; но очень скоро обнаружил то, чего и ждал: кровавый навет снова настойчиво выдвигался. Вот, теперь опять они взялись за дело всерьез, он подумал. Ссылки на совращение малолетнего, на участие в шайке еврейских воров и взломщиков, собиравшейся в подвале киевской синагоги, — весь этот бред из письма Марфы Головой бесследно исчез. Снова Яков Бок обвинялся в убийстве невинного ребенка с целью изъятия живой крови, необходимой для пасхальной мацы.
Это подтверждал профессор Манилий Загреб, который при содействии своего уважаемого коллеги доктора Сергея Була произвел вскрытие останков Жени Голова. Оба с уверенностью утверждали, что злостные раны наносились как бы скоплениями с преднамеренным числом ран, причем каждое скопление было отделено от другого рассчитанным временным отрезком, с тем чтобы продлить страдания жертвы и облегчить кровеистечение. Было установлено, что из каждого такого скопления ран собрано по одному литру крови, а всего собрано в бутыли пять литров крови. Таково же было и заключение отца Анастасия, известного знатока еврейства, который тщательно изучал Талмуд и чьи соображения прилагались на восьми страницах тесной печати. Таково же было и заключение Ефима Балыка, судебного следователя. Он добросовестно выверил все показания и улики и пришел к выводу о полной их неопровержимости и достоверности.
Сами подробности кровавого преступления ничем, собственно, не отличались от грубешовских описаний в пещере, которым минуло больше двух лет, тот же был тут «замеченный в заводе десятником Прошко хасид цадик, вне всякого сомнения помогавший обвиняемому собрать необходимую кровь из тела мальчика, а также содействовавший переносу тела в пещеру, где и обнаружили его двое насмерть перепуганных детишек». Улики, в предыдущем обвинении опущенные, здесь водворились на свои места. Сообщалось, что полмешка муки для мацы «было припрятано» в помещении Якова Бока над конюшнями, вместе с отдельными кусками уже испеченной мацы, несомненно содержащей невинную кровь, каковую мацу оба еврея, «по всей вероятности», употребляли в пищу. Окровавленная тряпка, «которую обвиняемый признал лоскутом от своей рубахи», была обнаружена в том же помещении. Согласно показаниям Васи Шишковского, он вместе с Женей видел бутыль ярко-красной крови на столе у Бока, но когда ее стала искать полиция, бутыль эта бесследно исчезла. Мешок с плотницкими инструментами, окровавленные ножи и шила в их числе, был также обнаружен полицией после ареста Якова Бока, «несмотря на план еврейских сообщников Бока уничтожить эти и другие улики путем сожжения конюшен, каковой план и был затем ими осуществлен».
К концу этого изнурительного, жуткого документа всплывало уже кое-что новенькое: «самооговор Якова Бока в атеизме». Отмечалось, что, хотя обвиняемый при первом же допросе признался, что он еврей «по рождению и национальности», он, однако, «требовал для себя статуса атеиста» и, «умничая, заявлял, что он свободомыслящий, не верующий еврей». Зачем понадобилось ему «выставлять самого себя в столь неприглядном свете», легко понять всякому, кто на минуту призадумается о сути предмета. А для того ему это понадобилось, чтобы создать «смягчающие обстоятельства» и «затемняющие подробности», дабы «отвлечь законное расследование, утаив мотивы столь подлого злодейства». Этому утверждению об атеизме, однако же, нельзя верить, так как замечено было надежными свидетелями, включая тюремных стражников и официальных лиц, что Яков Бок, ожидая суда в одиночном заключении, «хоть и упорствуя в показаниях о своем неверии, тайно молился у себя в камере, ежедневно, по обычаю правоверных иудеев, покрывшись талесом и повязав филактерии на лоб и на левую руку». Еще видели, как он набожно читал Ветхий Завет, «каковой, равно как и вышеозначенные предметы культа, был тайком протащен в тюрьму соплеменниками Бока». Всякому, кто его наблюдал в это время, было очевидно, что он занят молитвой. Он употреблял талес, покуда тот на нем не истлел, и «даже и по сей день он хранит остатки этого священного облачения в кармане пальто».
Согласное мнение всех причастных к следствию лиц — что «этот самооговор понадобился Боку, дабы скрыть от властей, что он совершил убийство ребенка с одной-единственной гнусной целью — поставить хасидам-единоверцам непорочную кровь, потребную для изготовления пасхальной мацы и опресноков».
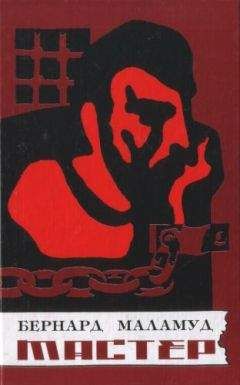


![Линкольн Чайлд - Доведенный до безумия [Gaslighted]](https://cdn.my-library.info/books/82283/82283.jpg)