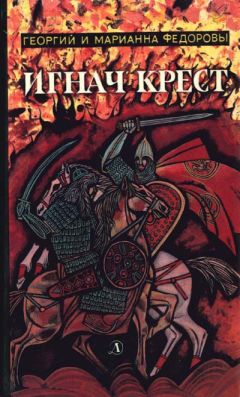Гусиное перо, которым монах приготовился записывать, выпало у него из пальцев. Он вскочил и наклонился к посаднику. Взгляды их встретились, и вдруг оказалось, что они очень похожи друг на друга. Летописец хрипло сказал:
— Торжок наш пригород. Посадником там новгородец Иван Дмитриевич. А ведь он посадником много лет честно прослужил и Новеграду. Как можем мы бросить их в смертельной беде? Или ты забыл об этом?
Степан Твердиславич, не опуская глаз, молча отрицательно покачал головой.
— Знаю, — с горечью продолжал летописец, — ты скажешь, что Торжку уже все равно не поможем — у поганых[41] несметная сила, а так, может быть, спасем Новеград, отсидимся за стенами детинца. Может быть, и так. А только спасем-то мы уже другой Новеград. Как дуб крепок своими кореньями, так и Новеград славен своими бесстрашными сынами, честью своей и совестью. Что ж останется от них, если мы предадим в беде родной пригород? Да будь я теперь, как встарь, посадником, я сам бы повел рать на помощь Торжку, как водил полки и дружины новгородские на емь, корелу и Литву, — проговорил монах и тяжело опустился на лавку.
Степан Твердиславич, у которого выступил пот на челе, хотя в келье было свежо, негромко, но твердо ответил, постепенно разгорячаясь:
— Да, но посадником сейчас не мой отец, а я, и я не пошлю помощь новоторжцам. Ты говоришь, что тогда Новгород станет уже не тем Новгородом, что сейчас. Да, станет. Вся Русь станет не такой, какой была раньше. Беды, какая пришла теперь, еще никогда не было. Ты далеко видишь из своей кельи, взгляни на низовские земли. Все, чем святы они были, растоптано, все лучшие мужи порубаны, а кто остался вживе, обращены в рабов. Мы, спасая Новгород, саму Русь, ее вековые устои, ее украсно украшенные храмы, ее премудрые книги, ее погосты, города и пригороды хотя бы в нашей новгородской земле спасем. Не посылая помощь новоторжцам, мы калечим души людей, а именно в них сила вольности нашей. Да только нет другого пути. Да, хуже, глуше станет Русь да и сам Новгород, но он не сгинет в веках и еще может возродиться, как волшебная птица Феникс, через испытания железом, кровью и огнем. А иначе и самое имя «Русь» исчезнет. Нет другого пути.
— Возродится? — устало сказал летописец. — Может, и возродится, да в каком обличье? Что у тебя, сердце-то из железа, что ли? Не знаю…
Степан Твердиславич, потушив блеснувший было бешенством взор, ответил сдержанно:
— Этого ты не знаешь, а мог бы знать, ведь оно тебе не вчуже. А не забыл ли ты, что по велению папы римского Григория Девятого в прошлом году два злейших врага наших — Тевтонский орден и орден Меченосцев объединились в один Ливонский орден и их соединенные войска уже подошли вплотную к рубежам наших земель? А знаешь ли ты, что совсем недавно шведский король Эрик Эриксон получил от того же папы римского благословение на крестовый поход против новгородцев и его рати нависли над нашими землями, как грозовые тучи? Торжок уже не спасти. А если хочешь спасти доброе имя Новгорода, то подумай — в чем оно. Пока только грозные полки наши в порубежье да отвага молодого князя Александра и его дружины удерживают от нападения и немецких рыцарей, и шведского короля. А если мы оттянем их к Торжку, что будет завтра с Новгородом, со всей Русью? На юге хозяевами станут орды поганых, на севере — шведы и немцы. Не только Новгорода — всей Руси не останется.
— А ежели поганые, спалив Торжок, пойдут на Новеград? — почти шепотом спросил летописец.
— Ну, пойдут, нет ли, еще неизвестно, — хмуро ответил посадник, и какая-то затаенная мысль отразилась на его лице. — А коли пойдут, их будет чем встретить. На всех ближних подступах, по рекам и низинам уже воздвигаются тверди[42] и засеки[43]. Биричи[44] разосланы во все волости, и по их призывам исполчаются рати и стягиваются к городу. Ты спрашиваешь, что останется, если мы не пошлем помощи Торжку? Русь останется.
— Останется и быль о том, как ты предал Торжок. Что напишут летописцы, что скажут потомки наши? — так же тихо спросил монах.
— Пусть проклянут, — ответил Степан Твердиславич, — лишь бы жив остался Новгород, лишь бы Русь осталась жива. — И с гордостью добавил: — А о чести нашей не беспокойся. Небольшой отряд новгородцев уже разведывает, каково войско поганых, какие у них планы.
— Чей отряд? — крепнущим голосом спросил летописец.
— Отряд… — медленно и с усилием проговорил Степан Твердиславич, — боярской дочери Александры Степановны…
— Внучка, Алекса! — прохрипел летописец и бессильно опустился на скамью.
Откуда-то, как тень, появился молодой, рыжий, со следами оспы на лице пономарь Тимофей и склонился вместе со Степаном Твердиславичем над опустившим голову на стол летописцем. Наконец старик зашевелился, застонал и, поддерживаемый пономарем и посадником, снова сел на лавке, привалившись к стене.
Степан Твердиславич, опустив глаза, проговорил покаянно и сбивчиво:
— Так получилось. Алекса с охотниками и рыбаками оказалась на полдороге к Торжку… Она сама туда помчалась, когда узнала, что город в осаде… Она ведь в тебя — в породу нашу. Что я мог сделать? Я только послал ей в помощь старого друга, опытного воина рыцаря Иоганна.
Между тем лицо летописца из белого стало пунцовым, и он также негромко, но очень четко сказал:
— Пусть тебя судит Бог. А помощь моя тебе в том, что я не буду на Совете Господы.
Степан Твердиславич, не решаясь приблизиться к отцу, молча низко поклонился и вышел из кельи.
Летописец сказал, обращаясь к молодому монаху:
— Тимофей, силы мои подходят к концу. Скоро предстану я перед лицом Спасителя. Тебе поручаю перебелить летопись и вести ее дальше.
— Благослови, святой отец, — почти прошептал клирик[45] и упал на колени.
Летописец, перекрестив его, сказал:
— С Богом. Только помни, пиши правду, истинную правду.
— А и то писать, как тебя, когда ты был мирянином Твердиславом Михалковым, святой отец, — спросил Тимофей, и лицо его выразило живейшее любопытство, — четыре раза народ выбирал посадником и три раза смещал?
— Все пиши, — отвердевшим и каким-то даже слегка высокомерным голосом ответил летописец.
— А когда же, когда? — продолжал допытываться Тимофей. — Когда прав был народ: когда выбирал тебя посадником или когда смещал?
— Сам должен понимать, — сурово ответил летописец. — Прав был и когда выбирал, и когда смещал. А ты прочти и перебели, как князь Святослав Ростиславович, имея зло на меня, отнял было у меня посадничество, но людие на вече спросили князя: «В чем вина его?» И, узнав, что без вины, даже и дело разбирать не стали, а сказали: «Вот наш посадник, и до того не допустим, чтобы отняли у него без вины посадничество».
— Еще хочу спросить, святой отец, прежде чем смиренно удалиться: а как писать о том, что посадник Степан Твердиславич не хочет послать рать на помощь Торжку?
— Как вече решит, так и напишешь, — с болью ответил Твердислав.
Поцеловав руку старца, Тимофей неслышно удалился.
Летописец с трудом поднялся, пошатываясь подошел к иконе, тяжело рухнул перед ней на колени и прошептал:
— Господи, спаси и сохрани Русь, Новеград и рабу твою Александру. Благодарю тебя, Господи, что я не посадник ныне. Уповая на тебя, Господи, безропотно несу крест свой, но да свершится твоя святая воля взять меня к себе…
Когда Степан Твердиславич спустился во владычный двор и направился к парадному крыльцу архиепископских палат, сердце его уже было замкнуто. Это снова был тот самый Степан Твердиславич, надменные речи которого услышал своенравный князь Ярослав Всеволодович, когда, поссорившись с новгородцами, засел в Торжке, не пропуская из низовских земель обозы с продовольствием и обрекая этим на голод Новгород и его волости. Это был тот самый Степан Твердиславич, который вот уже восемь лет бессменно ходил в посадниках и кому с почтением внимали не только все русские князья, но и Литва, и шведский король, и магистр Тевтонского ордена и Пруссии Герман Балк, ныне ставший во главе объединенного Ливонского ордена, и немецкие герцоги, и многие другие властители.
С усмешкой взглянул Степан Твердиславич на то, как дюжие молодцы из владычного полка загодя выносили древки от копий, но без железных наконечников. Не раз видел он, что, когда на вече разгорались страсти и наиболее задорные лезли в драку, воины из владычного полка, не разбирая дородства и звания, так ударяли забияк древками, что у тех не только пропадало желание драться, но и часто вылетало из головы, почему, собственно, затеяли они голку, из-за чего спор. Степан Твердиславич и сам в молодости испытал не раз удары владычных древков.
Да, время было собирать вече. Прав отец, иначе оно само соберется или его созовет кто-либо из противников Степана Твердиславича, которых у него всегда хватало. Отец прав, по крайней мере в этом-то прав полностью.