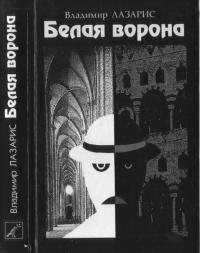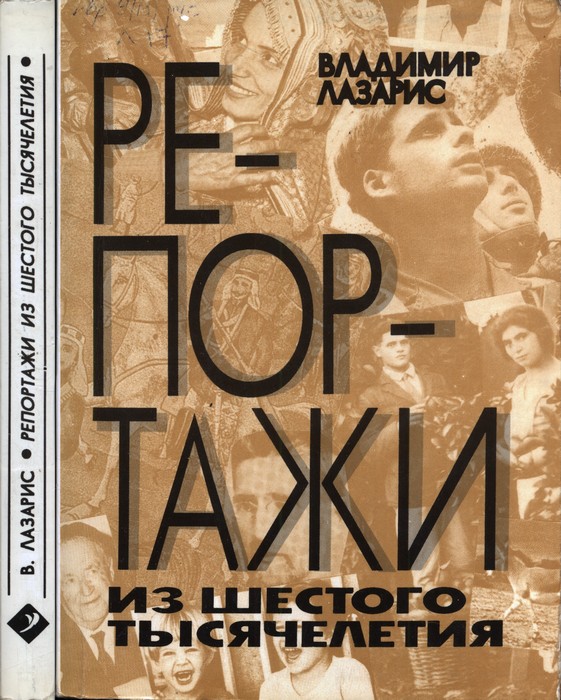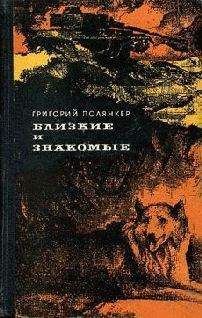Берлин.
В соответствии с нашим последним разговором относительно обещанных вами ста газовых машин я обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой ускорить их доставку, потому что…»
— Вы знаете, что такое «газовая машина»? — спросил муфтий Домета.
— Никогда не слышал, — честно признался Домет.
И муфтий подробно объяснил ему, как работает газовая машина.
— Потрясающе, — растерянно отозвался Домет.
— Вот и я сказал Гиммлеру то же самое! — обрадовался муфтий. — Так на чем мы остановились?
— На «потому что…» — тихо ответил Домет.
— Да, да, потому что «…от поступления вышеуказанных машин зависит окончательное решение еврейского вопроса в Палестине, в чем так заинтересован фюрер». Давайте-ка мне, я подпишу.
Домет с трудом добрался до дому: его мутило. Он выпил два стакана воды подряд — только хуже стало. В животе начались колики. Он лег. Боль отпустила, и он начал засыпать. «Увозят живых, привозят трупы»… «Увозят Амеири, Хартинера, Урбаха, Штрука, Цвейга… Не Цвейга, а Лину. Мама, где Гизелла?.. Пошла к подружке?.. „С тобой, Лили Марлен…“… с тобой, Лина…».
У Помета уже третий раз за месяц был острый приступ болей в животе. Он еле добрался до врача. Тот пощупал живот, спросил, где болит и не ел ли пациент что-нибудь несвежее. Домет ответил, что ничего несвежего не ел. Врач дал ему таблетки и велел принимать три раза в день перед едой.
Возвращаясь домой, Домет встретил у подъезда соседку по площадке фрау Шеллинг. У нее на Восточном фронте погиб единственный сын. С Дометом она всегда была очень любезна и поделилась с ним как с родным своим горем, когда пришло извещение о гибели сына.
Увидев Домета, фрау Шеллинг озабоченно сказала:
— Очень вы бледный, герр Домет.
— Живот болит, — пожаловался Домет.
— Надо обязательно сходить к врачу.
— Так я от него и иду. Но мне показалось, что врач не очень хороший.
— Чему тут удивляться? — фрау Шеллинг перешла на шепот. — Всех врачей-евреев пересажали или повысылали, вот мы и лечимся у кого попало.
Про себя Домет с ней согласился: не будь профессора Фляйшера, страшно подумать, что с ним сейчас было бы! А фрау Шеллинг продолжала:
— Всю жизнь я ходила к врачам-евреям, и мой мальчик… — она заплакала и вытащила носовой платок. — От каких только болезней ни лечил моего мальчика замечательный доктор Бухман. И от свинки, и от желтухи, и от скарлатины…
Фрау Шеллинг готова была рассказать о всех болезнях сына, как будто сегодня это имело какое-то значение.
Они уже дошли до их площадки.
— Герр Домет, — сказала фрау Шеллинг, прощаясь, — вы живете один, за вами некому ухаживать, но, если что понадобится, прошу вас, не стесняйтесь.
— Вы очень добры, фрау Шеллинг, — Домет открыл дверь. — Дай вам Бог здоровья!
— Зачем оно мне теперь, герр Домет? Мне не для кого жить.
Она снова заплакала и вошла в свою квартиру.
Захлопнув за собой дверь, Домет опустился на стул в прихожей. В зеркале отразилось перекошенное лицо: боль усилилась.
«Что у меня? Врач даже не поставил диагноз. Что мне делать? Искать по всему Берлину врача-еврея? Чушь какая-то. Может, эти таблетки помогут. У нас в роду все умирали молодыми. Отцу еще не было шестидесяти. Мне скоро — пятьдесят три. Когда я в последний раз отмечал свой день рождения? А с кем его отмечать? С Эльзой? Зачем я такой ей нужен!»
Домет едва доплелся до кухни, поставил на плиту чайник, принял таблетку, съел бутерброд и запил чаем — стало легче. Он переоделся и пошел в кабинет. Просмотрел на столе бумаги, взял несколько страниц начатой новеллы «Пистолет». Перечитал и разорвал.
«Какой из меня Конан-Дойль! Может, отдать „Последний из династии Омейядов“ в театр Лессинга? Черт с ними, пусть подписывают другой фамилией. Мне уже все равно. Могу даже Эльзе предложить, чтоб ее фамилия красовалась на афише вместо моей. Нет, надо написать о войне. О чем-нибудь другом сейчас не пойдет, когда весь мир воюет. Но я-то на этой войне не был, как я о ней напишу? О прошлой? Смешно писать о прошлой, когда настоящая еще не известно, чем кончится. Да и вообще, все сюжеты давно известны. А иначе и быть не может. Нет такого сюжета, которого не было бы в Ветхом завете. Я давно это заметил. Все, что есть в жизни, уже описано. Стоп. А если написать фантастическую пьесу о людях, которые убегают в потустороннюю жизнь? Пусть это будет лет через пятьдесят. Тогда и я смогу в нее убежать. Неужели в той жизни я снова встречу папу, Лину, Штрука, Амеири, Урбаха? Надо же, опять я убегаю, как мои герои: раньше — от себя, теперь — от самой жизни».
Домет пошел в спальню, но боль полоснула острым ножом, и он упал.
«Мама! Ма-ма!»
До телефона не дотянуться — высоко. Из последних сил он встал на колени, открыл входную дверь, дополз, опираясь на локти, до квартиры фрау Шеллинг и несколько раз постучал.
— Фрау Шеллинг! Это я — Домет. Фрау Шеллинг! Помогите!
Ключ. Верхний замок. Нижний замок. «Слава Богу!»
— Боже мой, герр Домет, что с вами? — ужаснулась фрау Шеллинг.
— Умоляю! «Скорую помощь». Скорее!
x x x
Бархатный баритон диктора неожиданно ворвался в операционную. Видимо, в коридоре санитар включил радио на полную громкость. «Наши доблестные войска под командованием фельдмаршала Паулюса ведут ожесточенные бои и уже добились заметных успехов…».
Закончив операцию, доктор Хенеке отошел от стола. Медсестра Марта вытирала Домету пот со лба.
— Капут! — прошептал Домет.
Хенеке перевел взгляд на больного и спросил сестру:
— Что он сказал?
Сестра равнодушно посмотрела на больного.
— Что вы сказали?
— Ка… капут.
Сестра вздрогнула.
— Больной сказал: «Капут».
— А он — реалист, — пробормотал себе под нос Хенеке, снимая резиновые перчатки, — с таким прободением язвы желудка ему, конечно, капут.
В коридоре раздался лающий голос рейхсмаршала Геринга: «Даже тысячу лет спустя немцы будут говорить о битве под Сталинградом с гордостью и вспоминать, что, несмотря ни на что, окончательная победа Германии была достигнута там…»
Домет вцепился руками в больничный матрас и отчаянно пытался сказать что-то еще. Сестра низко наклонилась к нему, и Хенеке с удовольствием посмотрел на задравшийся халат, хорошо зная, что под ним скрыто.
— Война проиграна, — неожиданно четко произнес Домет и добавил: — Всем капут.
Сестра отшатнулась и посмотрела на Хенеке.
— Больной бредит, — сказала она испуганно.
«Да за такой бред расстрелять могут», — подумал Хенеке и показал Марте глазами на дверь: не подслушивает ли санитар, давно завербованный гестапо.
Она выглянула и сказала, что за