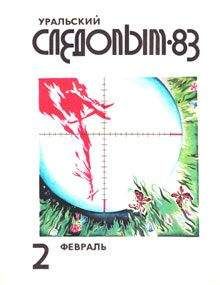— А правда, может же быть, да? Чтоб двое — и фамилия одна, и звали одинаково, и по батюшке? Верно?
Велик взял вожжи и понукнул лошадь. Ему тяжело было говорить Манюшке неправду, хотелось, чтобы она ушла. Но Манюшка теперь семенила рядом и требовала подтверждения своим неправдоподобным предположениям: «Да? Верно? Правда ж?» И он кивал и мычал что-то невразумительное, а чаще отворачивался, понукал и подгонял Лихую.
Так они обошли круг, а когда вернулись к дороге, здесь их ждали остальные боронильщики и среди них — сияющий красавчик Коля Водюшин. Едва они приблизились, он заговорил, захлебываясь и ликуя:
— Ну вот, все в сборе… Теперь можно… Я нынче посыльный в сельсовете, вот сижу, ничего такого не жду, тут телефон — дзы-инь!..
— Да не тяни, японский городовой! — не выдержал Гавро, — Что? Говори сразу!
— Победа, вот что! Председатель велел — всем на митинг!
Наступило молчание. Все как будто растерялись. Ждали эту минуту, мечтали о ней, а пришла — не поняли сразу и не поверили.
Велика тоже сперва пришибла эта новость. Раскрыв рот, он ошалело глядел на Колю, а потом вдруг подпрыгнул и побежал по дороге, потрясая в воздухе кулаками и крича во все горло:
— Ур-ра! Победа! Победа! Ур-ра!
За ним с криками бросились остальные.
У самой деревни, когда Велик перешел на шаг, его догнала Манюшка. Она плакала навзрыд.
— Да ты что? — напустился на нее Велик, от радости забывший все на свете. — Ведь победа!
— Да, тебе хорошо радоваться! — сквозь рыдания кричала Манюшка, — Твой жив остался, теперь придет, а моего то уби-ил-и!
Первое мирное лето в Журавкине было по-прежнему голодным и тревожным. После победы все, у кого мужики воевали, с замиранием сердца ждали писем, уже послевоенных. Сперва приходили еще фронтовые, эти уже не радовали, наоборот, сгущали тревогу: мало ли, отправил письмо и тут же нарвался на пулю.
Велик тоже ждал. Но письма вдруг почему-то перестали идти, и он не находил себе места. М работа не отвлекала: посевная кончилась, наступила «большая перемена». Читал, играл с ребятами в войну, выпускал стенгазету, ходил на Навлю за щавелем и другой съедобной травой. Но разве заслонишься от тревожных мыслей?
Как-то перед вечером зашел к нему Иван Жареный.
— Слушай, маршал, есть предложение: поеха-али-ка на У-ук-раину, Хоть хлебца чистого поедим вволю, А то ведь совсем отощал. Скажешь — нет?
— А где ты его возьмешь, хлебец-то?
— Наймемся на работу. А нет — по-обираться пойдем.
Сползла с печи Манюшка, села у стола, склонившись подбородком на руки, и внимательно стала смотреть на Ивана.
— А нешо там есть чистый хлебушек? — спросила она.
— Говорят, есть. Васька Бык приехал с Западной Украины — вот та-акая ряшка! Говорит, и понятия не имеют подмешивать в хлеб. Чистенький, как золото.
— Поедем, Велик, — сказала Манюшка. — А то меня ужака совсем дожрет.
Ну вот, и куда с такой ехать? — недовольно пробурчал Иван. — Придется и по вагонам лазить, и под вагонами, и… не знаю, где еще. Вон послухай-ка, что Ва-аська рассказывает…
— Знамо дело… А мы лазили и на вагоны, и под вагонами, правда, Вель? Так что, может, я еще и тебя могу поучить, — она глянула на Велика, сгорбившеюся на лавке, на его наморщенный лоб, поняла: соображает — ехать или не ехать, взять ее или не брать. — Если меня не возьмете, я тут помру, ей-богу, вот увидите.
«А чего а не съездить? — подумал Велик. — Дни побегут быстрей, и подкормимся, и не будешь каждый день с утра до вечера ждать почтальона, а потом всю ночь думать, что с отцом».
— А куда поедем-то?
Иван поерзал на конике, усаживаясь поудобнее.
— Я ж сказал: на У-украину.
— А Украина что тебе — станция? Слезай — приехали?
— Ну… Забыл я. Не беда — Васька дорогу знает.
— А мы что, с ним? — набычился Велик.
— Ну и что? — Скрывая смущение, Иван начал потирать легонько подушечками пальцев рубим на лице. — Все ж как-никак знает, куда ехать, и как ехать, и… му-ужик уже, скоро в армию заберут.
Велик вдруг обиделся.
— Подумаешь, мужик! Не в том дело, что по годам старше. Он например, не в комсомоле, а я в комсомоле, и он будет мною командовать?
— Командовать он за-ахочет, это точно. Ну, дак а как же иначе? Раз ведет, значит, командир. Другое дело, если начнет выкаблучиваться… Нас двое, что ж мы станем пятки ему чесать?
— Пятки, пятки… при чем тут пятки? — пробормотал Велик. Он не знал, что возразить Ивану, тот правильно говорил, но все его нутро восставало против Васьки Быка. — Вот скажи: чего он в комсомол не вступил?
— Ну, допустим, не хочет. Я как-то слыхал — с Заряном они ругались. Не знаю, из-за чего там у них затеялось. Васька кричит: «Подумаешь, комсомольцы! Если захочу — завтра безусловно буду в комсомоле!» А Зарян ему: «Ну захоти! И поглядишь, как мы тебе, уркагану, трусу, дадим от ворот поворот! Думаешь, мы забыли, как из-за тебя немцы чуть не расстреляли наших журавкинских ребят? Не забыли — вот она, памятка». И постучал по своей резиновой ла-адони.
— Ага, ну вот видишь.
— Что «видишь»? Я тогда на Навле с вами не был, знаю только по рассказам, что Васька украл у немцев топорик, и они хотели за это всех ребят пострелять. Всю вину взял на себя Зарян, и они отрубили ему руку. Ну, это все ясно. Я ж и не говорю, что Ва-аська Бык золотой человек. Просто — знает дорогу, а мы не знаем. Он ищет себе компанию. Потому и просил с тобой поговорить.
— Не поеду с Быком, — глядя исподлобья, сказал Велик.
— Да ка-акой у тебя резон? — начал злиться Иван. Белые рубцы на его лице зарозовели. — Резона-то нет. Ну, не комсомолец, и черт с ним! Не в атаку ж мы — всего-навсего побираться. Скажешь — нет?
— Не поеду с Быком, — упрямо повторил Велик, сам не понимая своего упрямства. — Ты — как хочешь. А мы с Манюшкой вдвоем не пропадем.
Сейчас же Манюшка вскинула голову.
— Иди, иди, обойдемся без всяких тут… Шлепай к своему Быку… и спаси вас господь.
Иван поглядел на Велика, на Манюшку, рассмеялся.
— Верный у тебя щенок. Чуть большая собака забрехала — сразу начинает подтявкивать. Скажешь — нет?
— Неверных не держим, — улыбнулся и Велик.
— А ты не обзывайся, змей Жареный, — обиделась Манюшка и полезла на печь.
Вышли затемно — до Навли было восемнадцать километров, топать да топать. Двинулись не гатью, а тропинками в обход деревень, через луга, кочкарники и кусты. Пешие все ходили этим путем, потому как считалось прямее и ближе, а так ли это и насколько ближе — никто не знал.
Тропинки были плотно утрамбованные и широкие. Велик и Иван шли рядом, Манюшка сзади. Налегке шагалось ходко. Изредка перебрасывались случайными фразами, а больше молчали — каждому было о чем.
У Велика в холщовой сумке, что ерзала по спине, лежали еще две свернутые пустые сумки, под ними последняя пригоршня желудей. Приятно тяжелила ношу полуковрига хлеба. Велик перебирал в памяти подробности вчерашнего вечера, вернее, его конца, когда он пошел провожать домой Таню Чуркову.
В общем-то, ничего особого не было — шли, разговаривая о том о сем, потом сидели в ее палисаднике, на завалинке между окон, шепотом обмениваясь незначащими словами. Между прочим он сообщил, что завтра в это время уже во-он где будет. И тут Таню как будто подменили. Она начала суетиться, ерзать, вздыхать и болтать всякую ерунду, вроде того, что, мол, когда ж мы теперь свидимся и будет ли он скучать по ней. Потом она сходила в хату и вынесла эту самую полуковригу. Он было взъерошился: «Ты что?» Но Таня сказала:
— Если не возьмешь, я… я не знаю, что сделаю… я тебе глаза выцарапаю… или вцеплюсь в тебя и буду кричать и плакать, пока народ не сбежится. Опозорю… А скорей всего, я просто помру. Вот. — Голос у нее дрогнул, и Велик услышал, как она глотает слезы.
Он понял, что его намерение отказаться от хлеба неуместно, что это не подачка, а дар от чистого сердца и с любовью. Он положил его на колени, посопел, справляясь с непрошеной слезой, и прошептал:
— Попадет тебе.
— Молчи, молчи.
Они посидели еще какое-то время, показавшееся невыносимо долгим. Незнакомое волнение охватило его, стало так, будто он подсматривает за ее душой, откликаясь на каждое ее движение таким же движением, и ему было тягостно и стыдно от этой близости. Он все хотел встать и не мог решиться порвать живые нити, что соединили их души.
Наконец пересилил себя. Таня проводила его на дорогу, обняла и поцеловала в губы.
— Приезжай скорей назад, — прошептала она, — я буду ждать.
Он пошел, и ему не было почему-то досадно от всего этого, а было щемяще-приятно и все еще немного стыдно. Как будто из своего привычного мира он попал в другой, где все по-другому, и сам стал другим.
Шагая сейчас сквозь высокий кустарник, скрывавший невысокое еще солнце, Велик вспоминал каждое слово вчерашней Тани, каждый ее жест. У него сладко ныло сердце, и он боязливо оглядывался на Ивана — не подслушивает ли он его мысли?