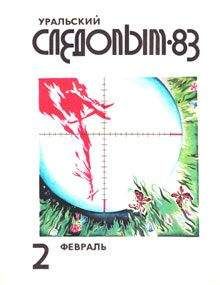Поле кончилось. Дальше метрах в ста синел в легкой дымке лес. Между ним и полем лежало вытоптанное пастбище, усеянное редкими одиночными кустами. Сюда Манюшка вместе с другими пригоняла иногда пасти коров. Седой приказал остановиться. Ребят сбили в кучу. У них были землисто-серые лица. Манюшка икала то ли от сырой свежести, то ли от страха и жалобно, с затаенной надеждой взглядывала на Велика. Он отводил глаза.
— Э, да ты, хлопче, я бачу, еле на ногах стоиш, — с насмешкой сказал седой и легонько толкнул Миколу. Тот покачнулся. — З горилки чи з переляку?
— Все зроблю, як треба, пане четныку, — заплетающимся языком ответил Микола. — Ось побачите. Для меня це… тьху!
— Ну-ну, молодчага.
Ребят кучкой погнали через пастбище. У первых деревьев остановили.
— Ну, — сказал седой, — ставь их до дубив и кинчай.
— Ни, я так не можу, — заупрямился Микола. — Воны будуть на мене дывытыся. Я их пущу на пасовыще — хай бигуть…
— Ну, як хочеш. Нам треба поспишаты до схрону, тому дывытыся на твий геройський подвиг не будемо. Але ж и залышаты тебе одного з москалямы небезпечно. Горобець, побудеш з ным, — обратился он к чубатому, — але тильки для пидстраховки, Нехай все робыть сам. Зьясувало?
— Так, пане четныку.
Седой и длинношеий скрылись за деревьями.
— Вы, хлопцы, бегите, — махнул рукой Микола, — Вон до того куста. Бегите. А там… Посчастит — убежите, ни — то ни.
— Неужто так и побьют? — прошептал Иван. — А, Велик?
— Надо рассыпаться пошире, — ответил вполголоса Велик. — Может, в кого и промажет.
— Ну, раз, два, три! — крикнул Микола.
Ребята не тронулись с места. Каждому казалось: стоит только повернуться спиной — и сразу смерть.
— Ото що мы, гратыся з вамы будемо? — Горобец подскочил к Ваське, ткнул ему автоматом под ребра. Тот, скособочившись, шарахнулся от него.
— Мы с Манюшкой налево! — крикнул Велик и побежал со всех ног левее Васьки, на бегу наставляя Манюшку задыхающимся голосом: — Беги впереди меня! Как начнет стрелять, сразу падай! И не шевелись! Ясно? Передо мной! Передо мной, Манюш!
Они неслись, втянув головы в плечи, пригнувшись — убегали от смерти. И первые несколько мгновений, пока не прозвучали выстрелы, Велику верилось, что их и не будет, выстрелов, может, их попугают смертью и все. Но потом он услышал сзади четкую автоматную очередь, успел толкнуть Манюшку в спину и, подхваченный и брошенный какой-то чудовищной силой, упал на девочку, перекувырнулся и распластался голова к голове с нею, раскинув руки и глядя в небо. С Дикой быстротой закрутились в голове обрывки мыслей и видений. Перед ним предстали мать и Танька — и мгновенно исчезли, предстал отец — и исчез. «И хлеб заработанный пропал», — подумалось и тотчас забылось, предстал Зарян — и исчез, подумалось: «Не надо ей было целовать меня в губы, ведь говорят: если на прощанье целуются в губы, больше не свидятся». И после этой мысли карусель остановилась. И он уже не услышал других выстрелов.
Не услышала их и Манюшка. У нее страшно шумело в голове, саднили коленки. Помня наставление Велика, она долго лежала, не шевелясь, зажмурившись, боясь приоткрыть даже полглаза. Потом шум в голове утих, она услышала тишину и почувствовала на шее ласковое прикосновение теплого солнечного луча. Открыла глаза, повела головой и увидела прямо перед своим лицом пегие, с седыми прядками Великовы волосы, его неподвижное, сведенное как будто досадой лицо и мертвые открытые глаза. Словно мощной пружиной, подкинутая ужасом, Манюшка изо всех сил побежала прочь, тихонько подскуливая.
Так она бежала до самой станции, а потом долго ходила по базару и все пыталась вспомнить, что ей обязательно надо сделать, прежде чем сесть на поезд и уехать. Наконец, столкнувшись с милиционером, который уже начал приглядываться к этой странной девочке с безумными глазами, она сказала ему:
— Дядь милиционер, там наших побили. В Поречье.
— Каких ваших?
— Ну, наших… журавкинских… русских…
И зарыдала.
Ее пригорнули кречетовские бабы, и с ними полумертвая, с закаменевшим сердцем добралась Манюшка до Навли. В дороге она молчала, на все расспросы отвечала односложно, сквозь стиснутые зубы. Так ничего и не узнав от нее, видя ее упорное нежелание рассказывать, бабы отстали. И в Навле, когда слезли с поезда, спросили только:
— Ну, ты куда? Может, с нами?
Манюшка покачала головой и пошла прочь. Бабы повздыхали вслед и, взвалив на плечи добытый в дальних краях хлебушко, заспешили к своим заждавшимся голодным детям.
Она не знала, куда ей податься. Идти в Журавкино? А зачем? К кому теперь? Все ее существо противилось возвращению в Журавкино — достаточно было один раз представить пустую хату, где из каждого угла на все будет глядеть невидимый Велик. До позднего вечера бродила она по поселку, не смея остановиться, как будто уходила от чего-то страшного.
Уже в сумерках, когда осветились окна, в очередной раз проходя мимо Дома культуры, она увидела за незашторенными окнами танцующие пары и уловила знакомый мотив:
Карапет, мой ягода,
Люблю тебя два года,
А ты меня семь лет —
Приду — тебя дома нет.
Мелодия вошла в душу и как бы вобрала в себя всю Манюшкину боль, дала ей название, оформила, перевела в слова.
— Приду — тебя дома нет, — прошептала Манюшка, и по лицу её побежали слезы.
У нее гудели ноги, кололо в боку. Почувствовав наконец усталость, Манюшка пошла на вокзал. Там было полно людей, а ей каждый человек казался сейчас чужим, потому что был занят своими делишками, как будто на свете не существовало вселенской беды, которая воплотилась в четыре слова: «Приду — тебя дома нет».
Уйдя со станции и поблуждав еще по улицам, девочка вышла на берег роки, уставленный небольшими стожками сена. Навля текла здесь среди лугов, отдалившись от леса, и воздух был луговой, настоянный на травах, прохладный от дыхания речки. Манюшка забралась в стог, угрелась ж. — начала засыпать, но вдруг уловила у самого уха какой-то шорох, шевеление. Она напрягла слух, начала вслушиваться и поняла, что здесь идет своим чередом какая-то своя жизнь. Мышиная, а может, и еще чья-то возня ни на миг не затихала под нею и вокруг нее. Наверно, жители этого стожка были встревожены Манюшкиным появлением и теперь сговаривались, как выжить ее отсюда. Ждали только, когда она заснет, чтоб наброситься. Сон пропал. Манюшка поняла, что не заснет — будет всю ночь прислушиваться и ждать, что вот сейчас выползет из сена здоровенная мышь, или крыса, или еще какой зверь и вонзит свои острые зубы ей в нос или в щеку.
Пришлось покинуть угретое место и вернуться в засыпающий поселок. Теперь, погруженный в темень, плотно обступившую тускло освещенный центр, он таил в себе неясную угрозу. Манюшка с трудом отыскала Настин дом, уселась на крыльце, свернулась в комок и задремала. Ей опять снилось, как они бежали по пастбищу, как падали, и Великово искаженное лицо, и мертвые глаза… Потом — темный провал, и все повторялось. И все время звучала музыка «карапета», завершаясь каждый раз вместе со сном болезненным взрывом в сердце: «Приду — тебя дома нет».
Девять дней прожила Манюшка у Насти. Все — и хозяйка, и Милица, и дети — обращались с нею, как с больной, заботливо и на полутонах. Но она чувствовала себя лишней в этой семье. Видела, что здесь у самих по счету каждая корка хлеба, и мучилась, что объедает добрых людей. Однажды, оставшись наедине с Милицей, она спросила:
— Ты не знаешь, что нужно, чтоб взяли в детдом?
Они сидели на лавочке у задней стены дома, где начинался Настин сад-огород. На площади в четыре сотки, засаженной картошкой и разными овощами, были разбросаны шесть фруктовых деревьев. Дальний угол занимал малинник. Милица только что пришла с работы и по обычаю отдыхала в тени старой яблони, что росла у самого дома. Услышав Манюшкин вопрос, она взяла девочку за плечи и повернула лицом к себе.
— Я давно подмечаю… Тебе что, плохо у нас?
— Нет, хорошо, только… Тут своих едоков хватает.
— Ну… тебя же никто не попрекает.
— Ждать, что ли, когда начнут попрекать?
— Какая-то ты… Погоди немного, я на днях выхожу замуж… — Милица засмеялась. — Смешно, правда? — «на днях выхожу замуж». Как в анекдоте. Но — так и есть: мы уже обо всем договорились… Так вот. ты будешь жить у нас. Поняла? И будет порядок в танковых частях.
— А кто он? — Манюшкин взгляд оживился.
— С войны пришел. Старшина, танкист.
— Не надо вам никого, — печально сказала Манюшка. — У вас свои дети будут.
— Ну что ты… что ты говоришь? Я ж от чистого сердца. Мне правда тебя жалко и… вы мне с Великом как родные, честное слово.
— Я верю, только… Я никогда не привыкну. Все время буду думать, что мешаю, объедаю… Как Велика убили, так я стала всем чужая. И люди мне все чужие стали. Вот кто-нибудь, допустим, жалеет меня, говорит разные слова, а я не верю. Как подумаю: а где ж ты был, когда нас убивали? — и сразу этот человек мне чужой-чужой становится и какой-то… ну… я не верю ему, считаю, что он все-все брешет.