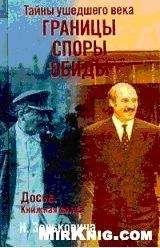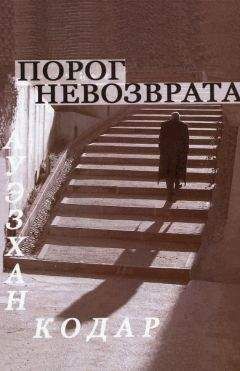Федька уже знал, что бывало с Лукьянычем и его товарищами в гражданскую войну, но рассказы об этом слушал всегда внимательно. И понимал — не дрожали наши люди за собственную жизнь, смело шли на смертный бой с буржуями и интервентами за родную землю, за свободу рабочих и крестьян, за правду народную.
В другой раз Лукьяныч поучал Федьку, какие люди бывают:
— Много, Федор, кругом нас людей, и все разные. Один с огоньком, с задором, не признает жизни без дела, без своей полезности для всех, и всегда он на быстрине. Другой — и шумный, с видимостью, а пустой, болтунок. Третий — как ледышка, не дымит, не греет и для чего живет — не знает. А то есть еще любители на чужой хребтине в гору взбираться, паразиты, одним словом. Ясно, настоящие-то люди те, которые украшают землю своим делом, люди радостные, светлые умом и сердцем, люди трудовые, от них и след в жизни остается памятный, красивый…
Да, как ни приятно вспоминать беседы Лукьяныча, а автобиографию за тебя никто не напишет. Лист все еще чистехонький лежит. Отцу — тому проще было. В партию, вступал на фронте, в боях под Великими Луками, в сорок втором году. Уже медаль «За отвагу» на груди была. Лет и дел за плечами у рядового пехотинца Ивана Егоровича Векшина значилось побольше, чем теперь у сына-моряка, — с должности председателя колхоза на фронт-то ушел.
Вот бы посоветоваться сейчас с отцом. Он подбодрил бы небось: «Смелей, Федюха! Давай без оглядки!» Чем-то занят он со своей полеводческой бригадой? К севу готовятся, наверно. На веретьях, поди-ка, уже прогалинки чернеют, ручейки лопочут по оврагам. На Сухоне скоро лед тронется, над полями журавли потянутся на север… Там ждут моряка на побывку не только отец с матерью и братишка с сестрой. Ждет еще Леля. Ольга Павловна. Она уже учительница…
Нет, лучше не давать воли думам — совсем размякнешь.
Ну а у других, у сверстников, важнее, что ли, биография? Вряд ли. Он ведь еще и трактористом был — это перед самым призывом, и секретарем комсомольской организации в колхозе. Он и на подводной лодке член бюро. Чем это не биография?
Встряхнул авторучку, прочертил на кромке газеты витиеватую линию и совсем уж собрался писать, но вспомнил комсомольское собрание, на котором утверждали рекомендацию ему. Усмехнулся. Речи-то какие! Векшин и честный, Векшин и дисциплинированный, он и товарищ душевный, и моторист толковый, он и хороший, он и пригожий… Сиди, красней от хвалы, как невеста на смотринах.
Федор взял в руки рекомендацию комсомольцев. Почерк размашистый. Верховский писал, секретарь бюро. А рекомендация командира все же лучше. Вон в ней какие веские, строгие слова. Федор представил, как капитан 2 ранга тепло, ласково, словно на родного сына, поглядел на него. «Вот, — сказал, — возьмите, Векшин. Даю от всего сердца. Уверен, что будете настоящим коммунистом!» А третья? «Обижусь, если у меня не попросишь рекомендацию». Как же обойти своего непосредственного начальника, с которым четвертый год рука об руку потеешь в дизельном отсеке? Нет уж, кого-кого, а старшину группы Павла Волохова уважает Векшин.
«Хватит!» — твердо решил Федор, придвигая бумагу.
Спустя полчаса он уже помахивал листком — сушил чернила. Отнести секретарю парторганизации не успел — отвлекли срочные предпоходные дела.
Подводная лодка в океане. Далеко родные берега. Не раз раздавался ревун — отрабатывалось срочное погружение, проводились тренировочные торпедные атаки. Люди четко несли тяжелые, изнуряющие вахты, несли без жалоб, без хныканья, порой и с шуткой. Кто мерз от холода и сырости, кто еле успевал вытирать пот с лица, многие страдали от головной боли, бледнели от слабости. А попробуй намекнуть любому из команды — мол, не сменить ли тебе лодку на другой, уютный, корабль или на берег, — каждый примет за большую обиду для себя. У этих людей трудной и опасной профессии суровая, крепкая дружба, у них любовь к своей лодке — преданная и искренняя.
Погода не баловала североморцев.
А однажды старший помощник объявил:
— Будет шторм!
В центральном посту кто-то тотчас продекламировал:
— Будет буря: мы поспорим и помужествуем с ней!
И верно — шторм, жестокий и беспощадный, неистово бушевал всю ночь. Лодку швыряло. Громада сумрачно-темной воды то и дело вырастала перед ней. И нельзя было до самого рассвета уйти на глубину: заряжались аккумуляторные батареи, вентилировались отсеки.
Вечером из-за оплошности одного все пережили большую неприятность. И до того были кое-какие неполадки: закапризничала помпа в трюме центрального поста, один из приборов вышел из строя. Но все это незаметно приводилось в порядок. А тут…
Весь день были под водой. Океан угомонился. Всплыли «под среднюю». В открытый люк хлынул свежий воздух. Последовала команда: «Приготовить дизель».
Пора бы раздаться грохоту дизеля, а послышался плеск воды, начал угрожающе расти дифферент лодки на корму. Поняли — что-то случилось.
— Дуть все! — крикнул старпом, когда в центральном посту бесшабашная струя воды через рубочный люк уже валила людей с ног.
Лодка снова начала всплывать.
Виновником оказался моторист старший матрос Евгений Кравченко.
В дизельном отсеке появились командир лодки и инженер-механик. Кравченко, бледный и потный, признался:
— Ошибся… Поторопился открыть захлопну подачи воздуха из шахты… Ну и…
— Чуть не отправил нас в бездну? — перебил его капитан 2 ранга. — Под килем-то две с половиной тысячи метров!
Кравченко молчал…
Векшин тоже был на вахте. Ему хотелось сказать командиру, что никто из них не растерялся, что за несколько секунд шахта была перекрыта вручную и что Кравченко помогал. Но посмотрел, как перекатывается набравшаяся в трюм вода, и ничего не сказал.
Командир ушел.
До смены вахты вода была удалена.
Векшин гадал: что это с Кравченко случилось? В прежних походах он был веселый, шутил. Нынче будто подменили — угрюмый, злой, слова не скажи. Поглядел на него и не утерпел — улыбнулся. Недавно, когда Кравченко, бледный, стоял перед командиром, Федор заметил — с лица Евгения исчезли все до единой веснушки. Сейчас бледность пропала, и конопатинки снова высыпали в бесчисленном множестве на лбу, на щеках, на носу.
«Эх ты, человечина!» — так и не терпелось подойти с этими словами к Женьке, притянуть к себе, разогнать его тяжелые думы.
— Векшин, на минутку! — отвлек командир минно-торпедной части Старостин, секретарь партийной организации. — Хотя пойдемте лучше… в каюту, — замети» разувавшегося Кравченко, замялся старший лейтенант. Видно, о нем хотел говорить. Но заговорил о другом: — У вас все документы готовы?
— Да, — ответил Векшин, пробираясь за Старостиным.
— Почему ж не отдадите мне?
— Вроде не время… Поход…
— Бойцов на переднем крае под огнем в партию принимали. Принесите. Может, завтра обсудим.
— Хорошо.
— Что с Кравченко-то будем делать? — спросил Старостин, как только вошли в каюту. — Верховский на вахте, вам придется вместо секретаря заняться. Если на бюро вызвать сейчас? Случай такой… Нельзя давать поблажку.
— Сейчас? — переспросил, недоумевая, Векшин. — А не лучше, когда отдохнет? Он ведь и сам напугался…
— Посоветуйтесь с членами бюро и решите… Натворил, растяпа.
Федор вернулся в свой отсек. Кравченко шумно перекантовался с боку на бок — лицом к переборке.
— Не спишь? — подсел к нему Векшин.
— Пожалеть хочешь? — грубо кинул в ответ Кравченко.
— Что с тобой, Жень?
— Кому какое дело — что со мной?!
— С ним по-хорошему, а он как очумелый.
— Да, очумелый! В этом грохоте, в духоте очумеешь…
— Значит, устал, умаялся?
— И устал! Что тут такого?
— И еще разнюнился? Да?
— Отстань! Тошно без твоего умничанья…
«Нет, брат, ты, выходит, и в самом деле свихнулся, — не без злости подумал Векшин. — Сам провинился, да еще и ершишься. Ишь недотрога какой! Устал, видите ли… Как будто остальные не устали — железные… Верно старший лейтенант советует. На бюро. Непременно!»
У Федора было праздничное настроение. Он — коммунист! Еще на партийном собрании подумал — после похода напишет домой, как принимали его в партию. Отец в эти на всю жизнь дорогие минуты был под землей, в блиндаже под пятью или шестью накатами. А сын бывшего фронтовика первые поздравления со вступлением в партию услышал от старших товарищей в океане, на глубине. Куда необычней обстановка!
Было радостно и как-то тревожно. Теперь с него больше спросится. И не только за себя, но и за товарищей. Сумеет ли он найти путь к их сердцам? С Кравченко вот не получилось. Вчера на бюро твердил: объявляйте выговор, если заслужил, а ошибся на вахте потому, что устал. Ни извинения перед товарищами, ни искреннего слова. Душу-то его так и не раскрыли. Может, не на бюро и разговор следовало вести. Выговор… В нем ли дело? А высокое сознание, флотский характер, закаленная воля — где они у Кравченко? Лукьяныч верно говорил: без закалки нет стали. Вот поход и закаляет. И работа, трудности — тоже. С Женькой и надо бы поговорить вот так, проще, убедительнее, чтобы растревожить…