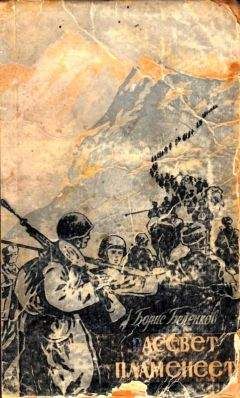— Н-ну? — начал он, что означало: доложите!
— Все в порядке, — тихо ответил Симонов.
— Разведка?
— От каждой…
Они говорили нарочито короткими фразами, из которых, если бы кто и подслушал, ничего бы не понял.
— Сразу же подробности.
— Будут… Я ожидаю.
До восхода солнца было еще далеко. Думая тяжелую думу, Симонов заговорил со своим связным:
— Как мыслишь, Пересыпкин, начать ли нам штурм, или посоветуешь подождать? Чтобы посветлело немного?
Разговор Симонов завел лишь для того, чтобы время ожидания разведки не тянулось так нестерпимо долго.
— Товарищ майор, туман-то какой! Если учесть, что эти пройдохи спят в спокойствии, надо бы сейчас, ей-богу. А там — как хотите. Худо бы только не было, если днем? Нагрянуть бы на сонных…
Симонов вгляделся в редевший туман, потом заговорил с расстановкой:
— Худо ли, хорошо ли — все равно надо. Да чтоб пройти по костям наших врагов.
— Ну, конечно, товарищ майор. А я что же сказал? Борьба!
— Все же об одном ты мне не сказал, почтенный, — как бы рассуждая сам с собой, продолжал Симонов.
— О чем, извиняюсь?
— А вот ты говоришь — «борьба», ба-бах! И рассыпался в прах, кончились гитлеровцы. А если сами наткнемся? Людей положим. Ну, что ты скажешь, Пересыпкин?
Пересыпкин не мог ответить. Ни на мгновение ему не приходила в голову мысль, что командир всерьез интересуется его мнением. И все же от поставленного вопроса он растерялся. Хитроватыми, немного раскосыми глазами исподлобья взглянул на Симонова, кашлянул в сжатый кулак и, уклоняясь от прямого ответа, сказал:
— Мое дело такое: на завтрак, скажем, кто должен добыть холодного вареного мяса? О вашем здоровье и так далее — кто должен позаботиться?
— Ограниченно мыслишь. А еще земляком называешься. Меня, почтеннейший, не пугают постные дни. Обойдемся и без холодного мяса. А вот как же все-таки наступать будем?
— Не могу знать, товарищи майор.
— А вот я должен знать, Пересыпкин. Я тоже, как ты, до войны жил себе в своем родном городе Кирове. Строил дома, школы — чтобы детишки учились. Был же, опять-таки, как ты, сугубо штатским. А теперь вот размышляю, как выбить противника с высоты. Крепко должны мы подумать, как это сделать и не положить дорогих товарищей, понял?
— Понял, товарищ майор.
Заметив вынырнувшего из тумана командира третьей роты, лейтенант Мельников сказал:
— Вот и Метелев, товарищ майор.
Метелев мерным шагом подошел к Симонову, доложил устало:
— Командир третьей роты, старший лейтенант Метелев прибыл по вашему приказанию.
— Опаздываете! — угрюмо сказал Симонов, меряя Метелева строгим взглядом.
Метелев подправил пилотку, потуже затянул ремень. В движении его рук Симонов заметил вялость.
— Доложите, что вам известно о противнике на новой позиции.
— Молчат, товарищ гвардии майор.
— А вы бы пошевелили.
— Пробовали, но трудно… неглубокую разведку. Но в такой темноте установили немногое.
— Трудно? — Симонов подошел ближе. — Я знаю некоторых командиров в своем батальоне, для которых «трудно» не имеет значения. Чувство ответственности за вверенные им человеческие жизни сильнее всякого «трудно».
Он внимательно смотрел в лицо и на широкий лоб Метелева. Он понимал, что «трудно» не Метелеву, а людям его роты.
— Товарищ гвардии майор, — переводя дыхание, произнес старший лейтенант. — Жду, когда станет немного светлее.
— Потом? — спросил Симонов.
— Разведаем. Может быть — боем. Врага почувствуем утром, если пойдем в атаку.
— Уже утро, — возразил Симонов. — Одно положение почувствовать врага, а другое — знать заранее, где он тебя может ужалить. А вы с пустыми руками ко мне пришли. Теперь всю задачу придется решать стремительным темпом. Ступайте в роту, я скоро буду у вас. И наблюдайте, непрерывно наблюдайте за противником.
Симонов взглянул на небо, оно совсем просветлело, но низом, над сонной степью, продолжал стлаться туман.
— Мельников, что ты узнал от соседей?
— Говорят — начнем поутру, потихонечку, полегонечку.
— Этот номер не выйдет. Поздно будет, надо сейчас.
Пересыпкин торжествовал. Он еще больше обрадовался, когда узнал, что комдив ответил согласием и что в атаку идут всем полком.
Легкий лиловый туман, низко висевший над необъятными хлопковыми плантациями, казался сотканным из воздуха и ранних солнечных лучей. Им как прикрытием и решил воспользоваться майор, чтобы незаметно подобраться к переднему краю противника. Сначала все шли пригибаясь, но по мере углубления в ложбину люди выпрямлялись, стремительно и почти бесшумно приближаясь к высоте, по которой проходила линия обороны противника.
В стороне заколыхалась узорчатая ткань тумана, — пламя гранатных разрывов выжигало кусками ее пелену.
Трудно было разобраться и предположить, что сильней подействовало на противника: взрывы и автоматная стрельба или могучее, грозно раздавшееся «ура-а!». Но окопы были заняты почти без боя.
Позади осталась в синеватой дымке станица Калиновская. Стояла прекрасная теплая погода, но воздух был отравлен запахом гари. Дивизионные тылы ежечасно подвергались жестокой бомбежке «Юнкерсов».
Булат вызвал Симонова по телефону.
— Ну, как? — спросил командир полка.
— Думаю, время шабашить, товарищ гвардии майор. До утра, в общем…
— Хорошо. Людей береги, Симонов.
— Товарищ гвардии майор, случаем пользуюсь, скажите мне…
— О комиссаре? — догадался тот.
— Да. Беспокоюсь, что с ним?
Булат помедлил. Симонову подумалось, что он наводит справки.
— Перестаньте об этом, Симонов, — жестко сказал он.
Судьба Рождественского для Симонова по-прежнему оставалась загадкой. В дивизии и в полку знали, что делают разведчики, но отмалчивались, на симоновское беспокойное домогательство не реагировали.
Под вечер Симонов сидел в полуразрушенном глинобитном домике. Погруженный в раздумье, он смотрел через пролом в стене на кусты, обросшие лишаями.
В одиночестве было тоскливо. Симонову захотелось поговорить с кем-нибудь. Но вблизи, кроме связистов, возившихся в окопе под окном, никого не было. Неожиданно в полуразрушенный домик, раскрасневшийся и разгоряченный, вошел Бугаев. Майор обрадовался, встал и пошел навстречу. Его потянуло к новому комиссару.
— Ну, проходи, садись, комиссар, — сказал он.
Политрук был не робким человеком, но еще не вошел в свою новую роль.
— Сажусь, сажусь, Андрей Иванович. Будто бы и мало ходил, а пятки горят…
— Говоришь, горят пятки? Переобуйся, а лучше всего — разуйся на часик. Ну, как там Петелин?
— Подошла кухня, обедают, — уклончиво ответил политрук.
— Чарку бы им лишнюю, заработали, — сказал Симонов. — Но где ее взять?
— Обед отличный, а чарки вовсе нет. Люди устали, некоторые в окопах спят мертвецки.
Бугаев говорил пониженным голосом.
— А я все думаю, — сказал Симонов, — неужели наши погибли, неужели мы больше не увидим нашего комиссара? Как ты смотришь на этот счет, политрук?
— Трудно сделать определенный вывод, — уклончиво ответил Бугаев, ступая босыми ногами по полу. Он явно стремился не говорить о комиссаре и поэтому поспешил переменить тему разговора. — Хочу просушить портянки, — сказал он. — От пота истлели, — жара!
— У меня есть запасная пара. Явится Пересыпкин — даст тебе. — Закурив, Симонов продолжал: — Конечно, гадая на кофейной гуще, не сделаешь правильного вывода, но вот предположим, что они фронт перешли удачно?
— И встретились с разведчиками дивизии, — дополнил Бугаев.
— Да, но рация у них испортилась, допустим.
— Возможно, — подумав, согласился Бугаев. — Это тоже могло случиться.
— Можно же было перебросить на нашу сторону хотя бы одного из разведчиков? Ну, что ты скажешь, политрук?
Бугаев сам очень тревожился за судьбу Рождественского, и переживания Симонова еще больше раздражали его.
— Не былинка же наш комиссар, не затеряется.
— Уж не утешаешь ли ты меня? — спросил Симонов.
— У нас нет основания слезу пускать, Андрей Иванович.
— Почтеннейший, я не нуждаюсь в няньке, проворчал Симонов.
Помолчал немного; потом, швырнув в пролом окурок, продолжал:
— Я лично не могу пребывать в полном спокойствии, пока не добьюсь ясного ответа. — Он тяжело поднялся, шагнул к пролому, спиной прислонился к стене. — Я не успокоюсь, пока не узнаю правду.
Бугаев подошел к Симонову.
— Товарищ майор, все же вы неправильно поняли меня, — проговорил он виновато. — В каждой роте, в каждом взводе спрашивают: какие новости о комиссаре? А я, разве я не любил Александра Титыча? Но что же мы можем сделать? Придется ждать.