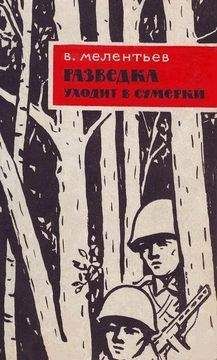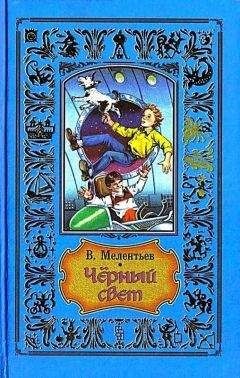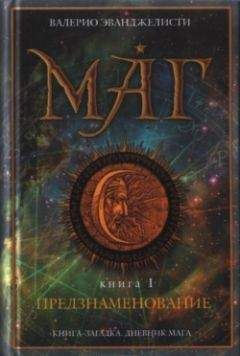Ознакомительная версия.
Небо, высокие верхушки елей, трепещущий листок осины понеслись вверх, в беспредельную глубину, подхватили с собой Сашку Сиренко, и он, удивляясь прелести этого полета, покорно отдался ему.
* * *
Удар двух автоматов в спину растерянному, но приходящему в себя противнику был точен и неотвратим. Срезав сразу нескольких солдат, старший лейтенант Андрианов и рядовой Потемкин стали бить на выбор тех, кто пытался скрыться в лесу. Противник тоже отвечал, и очереди полосовали лесную тишину, поднимая облачка корья и обрушивая зеленый листопад. На стороне разведчиков была неожиданность, и они закончили бы разгром генеральской охраны, если бы на стороне противника не действовал инстинкт самосохранения.
Солдаты уже не рассуждали. Они всем существом своим стремились к жизни и рвались к ней напролом, вкладывая в этот порыв нечто большее, чем может вложить человек в обычное время. Поэтому, как ни горяча была схватка, как ни велики потери, все-таки несколько солдат пробились сквозь сетку автоматных пуль и, не разбирая дороги, помчались на опушку леса.
Дробот, охраняя связанного генерала, услышал их топот. Он был в лучшем положении, чем старший лейтенант и Потемкин, — у него было время сориентироваться. Поэтому он отскочил в сторону от машины и, прячась за толстым стволом, изготовился для стрельбы стоя — так лес просматривался лучше, чем если бы Дробот залег.
Солдаты противника не были связаны друг с другом маневром. Они были лишены сейчас разума, и поэтому, даже когда сержант срезал первого, трое остальных не свернули с пути, не попытались отбиться. Они мчались, не разбирая дороги, и Дробот расстреливал их на выбор, методично и экономно.
Окончив нетрудную работу, он посмотрел на генерала и встретился с ним взглядом.
Ни боли, ни сожаления он не увидел. Светлые глаза генерала под опущенными коричневатыми веками были ясны и, кажется, доброжелательны. Не столько практик, сколько теоретик, Штаубер успел понять, что игра проиграна, и теперь смотрел на охранявшего его разведчика вполне доброжелательно — ведь именно от этого скуластого бойца зависела его жизнь.
Взгляд этот удивил сержанта, вызвал ощущение брезгливости. Только что на генеральских глазах погибли его люди, а он был доброжелателен, почти ласков, словно заискивал в чем-то перед разведчиком.
Брезгливость превратилась в презрение — уважать этого человека как солдата Дробот не мог: в нем было что-то от сытого, притерпевшегося зверя, которого пересадили из одной клетки в другую. И там и тут за хорошую еду нужно было сдерживать себя и подчиняться тем, кого не понимаешь и не любишь.
Ощущение брезгливости быстро прошло. Стрельбы не было, а лейтенант и Потемкин все еще не возвращались.
Это волновало. Дробот проверил узлы на генеральских кистях и продвинулся вперед. По дороге медленно шел Андрианов. Он увидел Дробота и опустил голову. Потом вскинул ее и отрывисто бросил:
— Пойди… простись. Я покараулю.
Дробот бросился к месту схватки, остановился перед мертвым Сиренко и долго стоял над ним, заглядывая в еще влажные, но уже стекленеющие Сашкины глаза. Потемкин неторопливо копал могилу, лопату он снял с бронетранспортера.
Было тихо; снова отрывисто и деловито затренькали и запищали птицы, легкий ветерок пробежал по вершинам, и лес зашелестел печально и затаенно. Чадил бронетранспортер, пахло цветами, соляркой и свежей кровью. Горло стали перехватывать спазмы, и Дробот, чтобы скрыть их от Потемкина, от самого себя, встал на одно колено, снял пилотку и поцеловал Сашку в лоб — еще влажный, еще теплый, но уже не по-живому дряблый — и впервые во всей полноте ощутил, как он любил этого паренька, как он был ему дорог.
Закрыв Сашкины глаза, сержант поднялся и, не оборачиваясь, пошел к опушке. По дороге встретил первую, возвратившуюся из разведки группу. Солдаты молча расступились и пропустили медленно бредущего сержанта.
Сашку похоронили здесь же, у самой дороги, поставили свежевырубленный обелиск. Никто, ни один человек не поцеловал его на прощание. Юноши, почти мальчики, разведчики считали, что даже прощальный поцелуй — свидетельство слабости. А они не просто хотели, они уже были сильными и умели сдерживать свои чувства. Так и остался нецелованным ни при жизни, ни после смерти таганрогский рабочий паренек, донской казачина Сашка Сиренко.
* * *
Пока хоронили Сашку, пока собирались остальные группы, Дробот, Потемкин и генерал ныряли из заросли в заросль, пробираясь на восток. Старший лейтенант не мог позволить такому ценному «языку» молчать с кляпом во рту. Он должен был работать, выдавать тайны, спасая этим жизнь тем, ради которых так просто и так ярко сгорел Александр Сиренко.
Генерал шагал между двумя разведчиками, приспосабливаясь размеренно дышать носом, и, когда останавливались разведчики, останавливался и он. А когда они прибавляли шаг, он, как на веревочке, тоже шел быстрее. Он был сыном и внуком военных, и военная дисциплина въелась в его кровь и плоть. Он всегда подчинялся старшим, кто бы они ни были. Сейчас этими старшими были русские разведчики, и он старательно, со знанием дела и потому с чувством собственного достоинства, подчинялся им.
И ни один из троих не заметил, как на выходе в поле, за кустом можжевельника встал человек с автоматом на шее, с гранатами на поясе и посмотрел на искаженное кляпом лицо генерала. Человек этот сделал было движение автоматом, но потом обмяк, рванул воротник, и за ним открылась матросская тельняшка — Гельмут Шварц решил не выручать генерала.
Часть, в которой он служил, была разгромлена, и долгое, тревожное блуждание в лесах позволило ему как следует оценить итоги войны… К окончательным выводам он еще не пришел, но участвовать в дальнейших благоглупостях ему уже не хотелось. Рисковать собой — тоже. Ему важно было выбраться, а там — он знал это — он найдет применение своим способностям и своим знаниям…
* * *
Независимо от сведений, которые представил на допросах генерал Штаубер, само его исчезновение было неоценимым подспорьем наступавшим советским войскам. Резервный корпус, не получая подтверждения отданного накануне приказа на контрнаступление, задержал удар. Это позволило советским войскам переправить противотанковую артиллерию.
Долгие поиски пропавшего командира, связь с вышестоящим штабом, уточнение объектов удара — все это заняло у корпусного штаба очень много времени, и практически целый день ими был потерян, а к полудню начались ожесточенные удары русской авиации — Андрианов сам развернул рацию и передал добытые сведения.
И никто — ни штабные работники, ни генералы, ни переправлявшиеся через реку танкисты и артиллеристы, пехотинцы и саперы, которые торопились вперед и вперед, — не знал, что этим днем неожиданно стремительного наступления по незанятой территории они обязаны тому, что радист и повар, ставший разведчиком, комсомолец Сиренко сознательно и спокойно совершил свой подвиг.
Да никого в те минуты это и не волновало. В других местах другие люди с другими именами и биографиями совершали другие подвиги, из которых складывалась общая победа.
Через несколько лет после войны старые товарища разыскали друг друга и списались. Встретились в Минске, где в свое время взвод получал награды за дальнюю удачную разведку. Отдувающийся, еще более потолстевший майор Мокряков, все такой же сутулый, сдержанный старшина сверхсрочной службы Дробот, мешковатый Потемкин и несколько других разведчиков, которые оказались поблизости, посидели в ресторане, вспомнили бои и лейтенант Хворостовин предложил:
— Вот что, товарищи. Не знаю, как вы, но я попал к вам во взвод, а значит, и окончательно решил свою судьбу благодаря Сиренко. И что бы вы ни думали, как бы вы ни гадали, а на его могилу я поеду обязательно.
Мокряков смолчал. Он потопал раздувшимися в икрах ножищами, посопел и вышел из-за стола. А когда вернулся, буркнул:
— Собирайтесь, понимаешь. Тут у меня артиллерийский генерал знакомый — дал машины.
Так они приехали к могиле Сиренко, обложили ее дерном, обновили обелиск, а когда закончили печальную работу, сели над старой дорогой и примолкли.
Пели птицы, ветер шевелил верхушки деревьев, и бархатистое полотно дороги, петляя, убегало к опушке. Ничто не тревожило лесной тишины и ничто не мешало думать.
Дробот прилег на локоть, сорвал травинку и, посасывая ее, почувствовал, что лежать ему неудобно — под локтем что-то перекатывается. Он приподнялся, пошарил и вытащил из травы стреляную автоматную гильзу, повертел ее в руках и вдруг с ослепительной точностью вспомнил бой и представил себе, как действовал Сиренко. Он сжал гильзу и кулаком вытер глаза.
Все молчали, и только Валерий шарил по траве, отыскивая гильзу — темную, еще попахивающую сгоревшим порохом. Он положил ее в нагрудный карман, в тот, в котором лежал его новенький партийный билет. Никто не удивился этому. Лишь Мокряков спросил:
Ознакомительная версия.