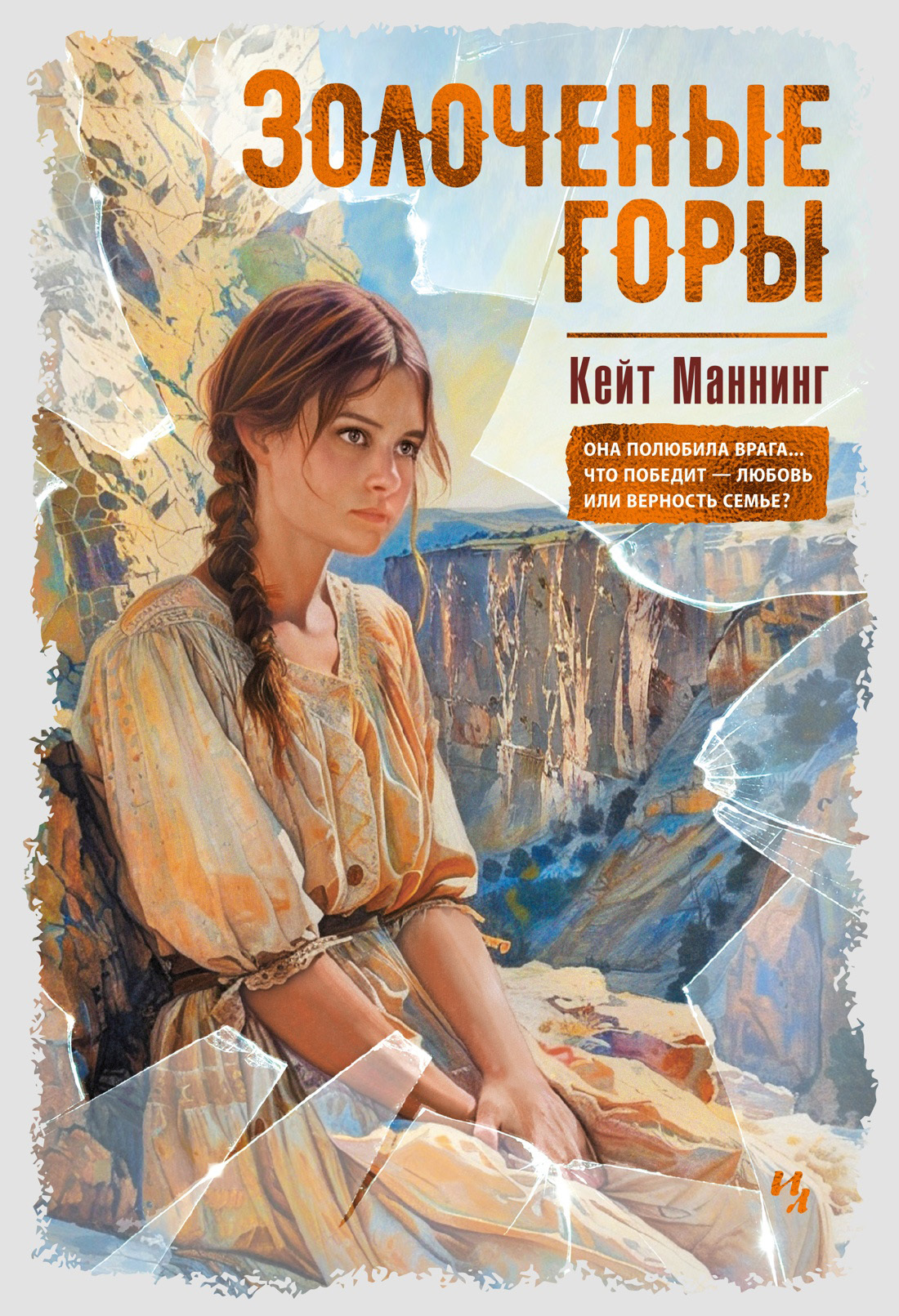мои росли, а пенсии от Объединенных горнорабочих едва хватало на самое необходимое: нужна была операция по женской части, требовала ремонта протекающая крыша дома. Пятьсот долларов из украденных денег так и лежат на моем личном счету под процент. Если я не успею потратить их при жизни, их с удивлением разделят между собой мои наследники. Наследство от давно сошедшего в могилу дедушки Пеллетье. Француза, так его называли. Моего отца, убитого в мраморной каменоломне Мунстоуна.
Сегодня я обнаруживаю, что застарелый гнев снова терзает меня, как чума, передо мной встают жестокие видения, стискивая мне горло. Я вижу очереди за хлебом в центре города, читаю о банкирах-самоубийцах и вереницах тощих, как скелеты, людей, пересекающих пыльные равнины в поисках работы, отдыха, сытной еды, и во мне загорается стремление действовать. Но что я могу? Что?
Я не могу стать воровкой. Да и у кого мне красть?
Несколько месяцев назад в поезде я читала в газете новости о предлагаемом законе Вагнера – какой-то добросердечный политик пытался помочь рабочему классу. Банкиры, сидя в своих облицованных мрамором конторах, высказывались против. Выглянув в окно, я заметила мула возле железнодорожных путей: погонщик хлестал бедное животное хлыстом. Это зрелище напомнило мне Дженкинса и школьный конкурс сочинений много лет назад. Три абзаца про измученных мулов вывели мою жизнь на предначертанный путь. Прямо там, в шатавшемся из стороны в сторону вагоне, я нашла клочок бумаги и стала писать, все время вспоминая вопрос, который задала мне тогда К. Т. «Колокол свободы треснул. Вы это знали?»
Декабрь 1934
ПИСЬМО МИЛЛИОНЕРАМ
Уважаемые господа Рокфеллер, Меллон, Морган, Дюпон и другие.
В ваших залах заседаний рабочих людей клеймят словами «агрессивные», «саботажники», «анархисты». Нас называют социалистами и боятся хуже сатанистов, а ведь мы всего лишь хотим честного отношения к себе. Здесь, в Колорадо, губернатор вызывает Национальную гвардию при малейшем дуновении протеста, выполняя распоряжения начальников и людей с огромным состоянием, таких, как вы сами.
В этом году более миллиона американских рабочих вышли на забастовки: портовые грузчики, работники автомобильной промышленности и металлургических предприятий – все они сражаются за справедливое отношение к себе. Это мирные протесты, но полиция и частные охранники отвечают на них кровавым насилием. В Миннеаполисе полицейские открыли огонь по группе из 67 бастующих водителей грузовиков. Двое мужчин были убиты, как был убит когда-то и мой муж во время стачки в Монтане. Как и он, эти рабочие требовали лишь возможности прокормиться своим трудом и права создать профсоюз.
Сейчас в Конгрессе обсуждается закон Вагнера, предлагающий сформировать Рабочий совет для правовой защиты справедливости: запрещено будет создавать объединения против профсоюзов, применять тактику запугивания, и от работодателей потребуют вести добросовестные переговоры. Но банкиры и ваша прослойка богатеев выступают против. Мистер Меллон из Министерства финансов полагает, что решением станет увеличение средств на благотворительность. Но в период затяжной депрессии милостыня не может быть ответом.
Вы, господа, жертвуете деньги на строительство оперных театров и зданий университетов, на которых напишут ваши имена. Но такая благотворительность – лишь малая песчинка ваших несметных богатств. Разве она решит проблему бездомных в нашей стране? Вы филантропы лишь в собственных глазах. Почему бы не платить рабочим за труд, как они того заслуживают? Рабочим не нужна милостыня. Милостыня не часть правовой системы. Она не заменяет справедливость.
Закон Вагнера обеспечит справедливость. Конгресс должен принять этот закон. В противном случае он столкнется с масштабным бунтом. Американцы потребуют у миллионеров соблюдать права и платить справедливую зарплату честным трудолюбивым людям, создающим нашу страну.
Искренне ваша,
С. П. Лонаган.
Денвер
Словно метнув бумажный дротик, я отправила этот клочок в издание «Нью-Йорк сан», в город, где живут миллионеры. И попросила работу внештатного репортера, освещающего трудовые новости в Колорадо. К моему удивлению, редактор послал мне чек на пять долларов, опубликовал письмо и принял на работу. Я не получила ответа от Рокфеллера и прочих господ, но статья с моим именем придала мне храбрости вести записи и выливать тревожные слова на страницы, пытаясь привнести смысл в эти дни неопределенности, эти пагубные времена.
– Так кто такая матушка Джонс? – спросила меня дочка Джоанна в тот день, когда прочитала о смерти Мэри Харрис Джонс.
Тридцатое ноября 1930 года. Джордж тогда еще был с нами. Услышав печальную новость, он заплакал. В газете напечатали ее портрет и фотографию с похорон, на них пришли тысячи благодарных ее последователей. Могила находится на кладбище Объединенных горнорабочих в Маунт-Олив, штат Иллинойс. Сегодня там стоит гранитный памятник великой женщине.
– Когда-то давно мы встречались с ней, – объяснила я. – Ваш отец и я. И тетя Трина.
– Правда? Как? Когда? – На мгновение Джоанна заинтересовалась, но пыл ее быстро угас, когда я начала рассказывать. – Ох, опять эти скучные разговоры о профсоюзах. Все истории папы о стачках одинаковые: пикеты тут, пикеты там.
Она убежала накручивать волосы на бигуди и натягивать шелковые чулки на свои чудесные юные щиколотки.
И словно что-то щелкнуло перед моим носом: я поняла, что так утрачивается история. Скрываемая от детей от усталости или стыда. Мы молчим о том, как мерзли ноги в прохудившихся башмаках, в которые затекал растаявший снег, потому что не в силах пережить это снова. Вашего дедушку убили, а бабушку «пинкертоны» швырнули на землю. После этого я не видела своих братьев пятнадцать лет. Рассказываешь об этом, а дети в ответ только:
– Угу. – И нетерпеливо зевают.
Для нас самих прошлое живо и ощущается так же ясно, как собственное дыхание. Для них же, для молодых, это лишь рассказ, не более реальный, чем картина на стене. Они проживают собственную историю.
«Аллилуйя, я бродяга», – напевал в детстве мой сын Джек, как когда-то давно Кусака. Но наш Джек понятия не имел о том, откуда взялась эта мелодия, о чем слова и как солнечный свет падал полосками на землю, а деревья отбрасывали длинные тени, когда Генри с младшим братом на плечах, распевавшим во весь голос эту песню, шел через лес к Алмазной реке удить рыбу. У Джека и его сестер своя музыка, новые песни по радио. Соответствующие времени. «Братишка, не одолжишь монетку?»
Мне остались воспоминания, старые газеты и острая жажда – жажда сохранить. Не вещи. Не засахаренные вишни, жемчужные бусы и обои из кожи слона. А томление по снежинке, тающей на моей ладони от теплого дыхания матери. Все, что я хочу сберечь, – кристальную красоту островерхих гор, чистоту холодного воздуха в легких, оживлявшего кровь и пронзавшего внутренности.