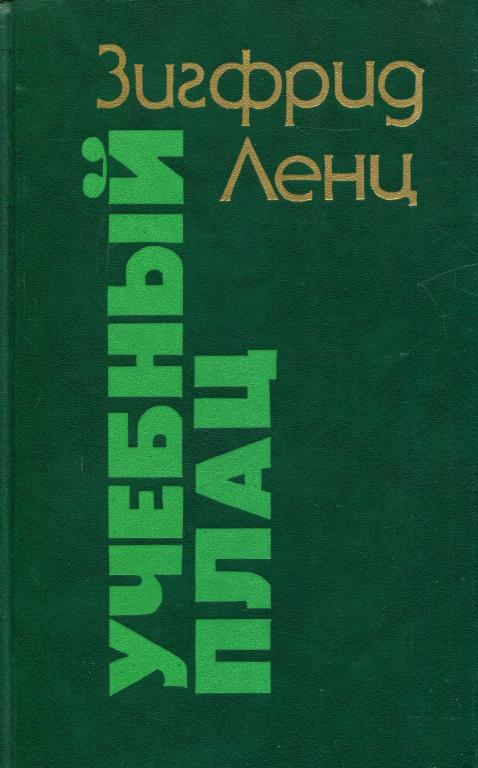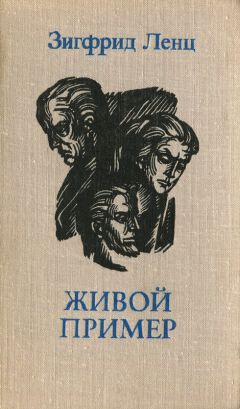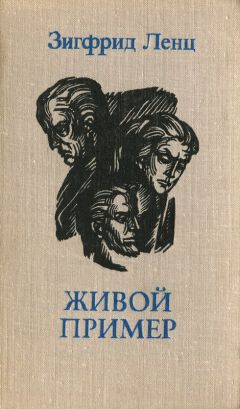по душе также, когда я рядом с ней грызу хрящи от ребер, она будто бы не выносит треска да еще таких звуков, как если б дробили уголь или зерно. Ах, Магде многое во мне не нравится, однажды она даже сказала:
— Сама не знаю, Бруно, почему я к тебе так привязалась.
Но теперь мне надо поторапливаться, а после обеда я сразу спущусь в погреб, перебирать картофель.
Сегодня на обед кислая капуста с сосисками и картофельным пюре, моя тарелка уже стоит в раздаточном окошке, так Магда дает мне иной раз понять, что она недовольна, а вот и ее лицо появилось в окошечке:
— Ну-с, господин, соблаговолил наконец явиться?
Говорит она чуть громче, чем надо, как если бы ее слова предназначались для чьих-то ушей, она кивает мне, подает знаки, чтобы я подошел и сам взял тарелку.
— Он уже назначен, Бруно.
— Кто?
— Срок разбирательства, я не все поняла, но срок разбирательства того дела в суде уже назначен.
— Нет, Магда!
— Да. Здесь был человек, который что-то передал им и от них кое-что дополнительно получил, я сама его видела, он и все другие считают, что решено будет объявить его недееспособным.
Не знаю, что на это сказать, они же не могут объявить шефа недееспособным.
— Может, это был уже его временный опекун, — говорит Магда. И еще говорит: — Тебе, Бруно, надо ждать многого, бояться тебе нечего, просто потому, что договор дарения оформлен на твое имя. Ты меня понял?
— Да, да.
— Так бери свою тарелку.
Шеф этого не потерпит, в один прекрасный день, когда терпение его лопнет, он начнет сопротивляться, он еще каждого из них за пояс заткнет, он, с его познаниями, он, с его шрамами. Для него я готов все на свете сделать.
— Ты почему не ешь, Бруно? — кричит Магда. — Ты не голоден?
Они треснули, сосиски, но все равно они очень вкусные, а кусочки яблока и виноградины намного улучшают вкус капусты, никому не приготовить этого так, как ты готовишь, Магда. Только бы нас оставили вместе, шефа и меня. Он, улыбаясь, наблюдал, когда я однажды опустился на четвереньки и замер, чтобы мои мучители могли завязать на мне что-то вроде ошейника, на лужайке, на глазах у всех. Потому только, что ты так поощрительно глядела на меня, Ина, я стал играть с ними, вытянул для них, тогда еще совсем маленьких, шею, они сумели лишь обкрутить веревку вокруг шеи, узел завязал шеф, который как раз опять был отмечен какой-то наградой. И я лаял и фыркал ради них и поднял даже, к их радости, ногу на куст роз, я служил, принес палку, рычал и бросался то одному, то другому в ноги. Я не хотел быть занудой и портить всем настроение. Но вдруг мальчишки так потянули за веревку, что я не мог дышать, стал давиться, откинулся назад, а мальчишки только веселились. Это шеф перерезал веревку, своим ножом перерубил ее.
— Кислую капусту можешь еще получить, Бруно, и картофель, но без сосисок, кончились.
— Нет-нет, на сегодня хватит.
— Ты наверняка чем-то другим наелся, — говорит Магда, — такой человек, как ты, и не замечает, что ест.
Надеюсь, меня не начнет лихорадить, мне уже кажется, что тарелка расширяется; так бывало всегда, когда меня лихорадило, все росло, все искажалось и расширялось — башмаки, и яблоко, и бабочка.
— Вот моя тарелка, Магда. Отставь ее. Тот человек был маленького роста, с портфелем, так странно причесанный? — спрашиваю я.
— Кто? Кого ты имеешь в виду?..
— Ну, ты же знаешь, тот, кто, возможно, станет опекуном.
С каким удивлением она на меня смотрит.
— Откуда ты его знаешь, Бруно? Скажи, ты его встречал?
— Он был у меня, — говорю я, — он наблюдал, как я пересаживаю, его зовут Гризер или Кизлер, и единственно, что он может, это задавать вопросы, ничего другого он не может. Шефу, чтобы с ним справиться, достаточно мизинцем шевельнуть.
— Не так громко, Бруно, не говори так громко.
— Ты придешь сегодня вечером?
— Не получится, сегодня вечером не получится.
— Но ведь надо что-то решить, мы должны что-то решить, — говорю я.
Она отворачивается.
— Сейчас мы можем только ждать.
Я поблагодарил ее, но она ничего больше не сказала. Стало быть, я ухожу.
Жабу нужно вытащить, иначе я не могу начать, она наверняка упала сюда, когда окно погреба было открыто, а может, сама прыгнула в темень, потому что на свету чувствовала себя в большей опасности; хотел бы я только знать, чем она тут питалась. Ее бородавчатая, вечно пульсирующая кожа, ее глаза с золотой каймой. Прыгать как лягушка она не может, она тянет лапки, карабкается и волочит свое брюхо по картофелю, на полку она вспрыгнуть не может, банки и кружки от нее в безопасности, а также копченая ветчина в специальном мешке. Лягушек я охотно беру в руки, одно удовольствие смотреть, как они упираются в ладонь, напрягаются, желая выскочить из сжатой руки, но до жаб я не дотрагиваюсь. Ну, лезь на лопату, пошли, лезь же на лопату, вот так, а теперь сиди, Спокойно, спокойно, не прыгать, сейчас будешь на воле и спрячешься под рододендроном, в сухих листьях.
В проволочную корзину, в нее я бросаю глазки, наш картофель здорово пророс, глазки на ощупь словно застывшие белесые черви, стекловидные черви, на свету дающие фиолетовый отблеск. С этакой подвальной бледностью и подвальной влажностью. Хотя хозяева следят, чтобы в подвале было сухо, они не в силах предотвратить просачивание селитры. Инейный селитряный цветок, узловатый, потрескавшийся.
Здесь, под землей, под учебным плацем, глубоко в бывшем командном холме — может быть, недалеко от того места, где они его некогда закопали, — здесь наверняка хранится больше сортов повидла, чем в лавке Тордсена, и на каждой банке Доротея написала: айва, клубника, яблочное желе и сливы. И еще: черная смородина и брусника — у нас все ягоды есть. Банку фруктов законсервировал в роме сам шеф, он, пожалуй, один среди нас, кто ест их, однажды зимой он съел три миски этих консервов, после чего сумел самостоятельно подняться и уйти.
Глазки легко отковыриваются большим пальцем, мне не нужно их даже выщипывать.
Это машина Иоахима, он дважды сигналит, как делает обычно, а голос — это голос Ины, она говорит с кем-то посторонним, это я сразу слышу, прощается официально, благодарит за посещение. Посторонний говорит так тихо, что ни единого слова не разобрать. Видимо, Иоахим отвезет его на станцию. Может, это тот человек с портфелем, может, это и хорошо, может, он тут всех порасспросил