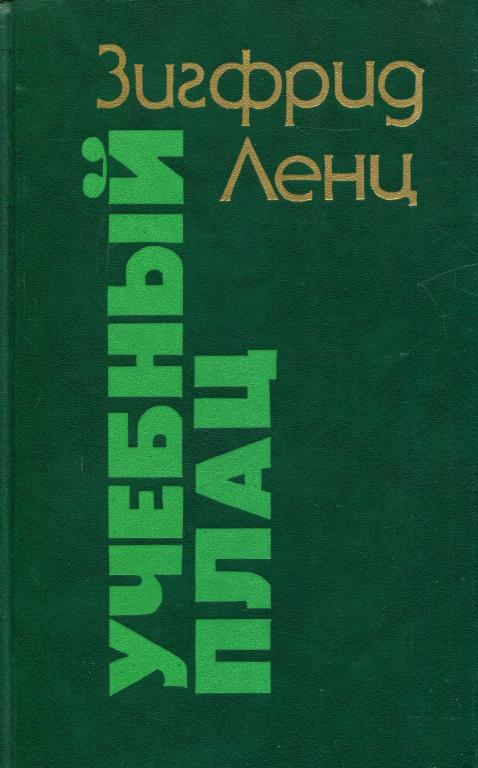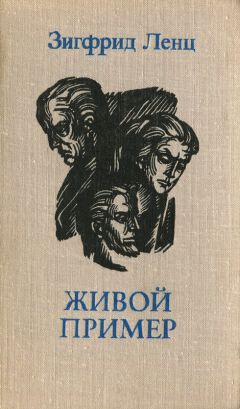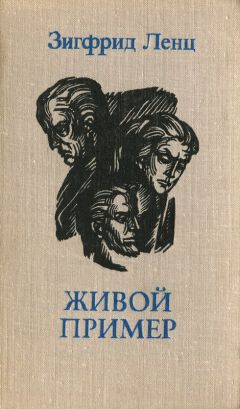верить, он, который должен ведь знать, что я в жизни не выслеживал его с умыслом.
— Ах, Бруно, — говорит он, качая головой.
Конечно же, он чувствует себя глубоко несчастным, несчастным из-за испытанного огорчения, с такой грустью он никогда еще не смотрел на меня; хоть бы мне доказать ему, что я вовсе не собирался подглядывать за ним.
— Я ничего не тронул, — говорю я.
— Знаю, Бруно, но я огорчен, что ты слова не сказал, когда я был в погребе, притворился мертвым и следил, что я делаю.
Он утирает слюну с подбородка, чуть улыбается, конечно, он не так уж серьезно относится к тому, что случилось, теперь он быстро сует руку под подушку, ощупывает там что-то и вытаскивает свою плоскую карманную фляжку, из которой я уже однажды получил право отпить, его можжевеловая водка, он долго держит ее во рту, прежде чем сглотнуть. Пустая, только две-три капли выливаются из нее и лопаются на его губах, но ему, видимо, и этого достаточно, довольный, он опять прячет фляжку, кивает мне, хочет, чтобы я подошел к нему близко-близко.
— Слушай меня, Бруно, там, в погребе, там лежит мой секретный резерв, мне пришлось его завести, потому что здесь, в доме, наверняка в мое отсутствие все проверяют, проверяют и пересчитывают. Прежде наша крепость была как стеклянный дом, все лежало на виду, каждый мог узнать то, что ему узнать хотелось, но теперь, как ты знаешь, все изменилось, теперь у нас много закоулков, укромных уголков и тайников, каждый пытается что-то укрыть, замаскировать, ведь маскировка дает им преимущества.
— Я спрячу ту ленту, — говорю я, — затолкаю глубоко в тайник, так что она ничего не выдаст.
Он согласен, он уже глазами говорит «да».
— Хорошо, Бруно, сделай так. Я знаю, что могу на тебя положиться.
Но почему он меня держит? Мне же надо поторапливаться, почему он еще ближе притягивает меня к себе, поднимается мне навстречу, словно хочет испытать меня на самом близком расстоянии. За куртку тянет он меня вниз, хочет, чтобы я сел.
— Ты же ничего не подписывал, Бруно, никакого заявления об отказе?
— Нет-нет, я ничего не подписал.
— Надеюсь на тебя, — говорит он и добавляет: — Договор сдан на хранение, и никто не уговорит меня отказаться от него. В один прекрасный день ты получишь то, что я тебе предназначил, и тогда ты покажешь всем, что можешь защитить полученное.
Он говорит все тише, я едва его понимаю и не вижу больше так ясно, внезапная пелена и головокружение отодвигают его куда-то, только его рука все увеличивается и увеличивается, но теперь я должен о том спросить:
— Почему, почему у нас не может быть все так, как раньше, как тогда, когда мы начинали?
— Потому что мы изменились, Бруно, каждый из нас, и набрались опыта, которым нельзя пренебречь.
А теперь пусть он знает:
— Если дело во мне, так я ничего не хочу, мне ничего не надо, и я ничего не хочу. Самое лучшее, если земля будет принадлежать тому, кому она всегда принадлежала.
Как сжало горло, теперь ни единого слова не прорвется сквозь раздутое горло, и в висках начинает стучать, но его голос, его голос я слышу еще отчетливей, этот спокойный другой голос: «Не поймешь, Бруно, ты же этого не поймешь, ты — лунатик, но, возможно, ты однажды проснешься. Когда-нибудь ты же потянешься, выйдешь из укрытия, тряхнешь головой и будешь защищаться — я сделал все, что мог». Да, говорю я, да. А он опять, откуда-то из дальней дали: «Не нужно тебе оглядываться назад, ибо ничто не повторяется, иди всегда только вперед, Бруно, пока не достигнешь своей высоты».
— Коллеров хутор, — говорю я, — он опять опустел.
Я точно слышал, что сказал это, но он, видимо, меня не понял, он лишь вздохнул, опустился на кушетку, удобно улегся.
— Ничто не повторяется, Бруно, это ты когда-нибудь осознаешь.
Как же он изнемог. Какое бремя на него навалилось. Он прикрывает глаза, нет больше ничего, о чем он считал бы нужным сказать, хотя губы его вздрагивают, хотя он шевелит пальцами, словно бы что-то пересчитывает; прощанье с ним его только потревожит.
Ленту в погребе надо убрать, перво-наперво мне надо спуститься туда, только бы эта тянущая боль прошла, у лестничного косяка я мог бы от нее освободиться, раз-другой треснуться лбом о косяк, пока не загремит в голове, и тогда все постепенно успокоится. Никто нас не выслеживает, теперь я могу потихоньку уйти, осторожно спущусь по лестнице; ты совсем один, Бруно, какой холодный косяк, какой скользкий и холодный. Лунатик, назвал меня шеф — впервые.
Подняться, скорей подняться и бежать к двери в погреб, прежде чем она придет, это шаги не Доротеи, еще немного, и ты застала бы меня у шефа, Магда, мы могли бы с тобой столкнуться, я и ты с подносом. Такова уж Магда; она не останавливается по моему знаку, недружелюбно взглядывает на меня, предостерегает меня, чтобы я и не пытался с ней заговорить, в доме никто не должен ни о чем догадываться; ладно, ладно, я словечка не скажу, только будь осторожнее с чаем, с натертыми яблоками. Как ей хорошо удается эта строгость. Бережнее никто не носит поднос, ничего у нее не звякает и не дребезжит, ничего не скользит по подносу. Если бы ты только знала, чем я сейчас займусь, у меня тоже есть от него задание, самое тайное, какое только можно себе представить, наверняка никому другому он бы его не доверил, просто потому, что ни на кого не полагается так, как на меня.
Прочь кувшины, глубже запихиваю ленту, неважно, если она помнется, а завалю ее сверху обломком цемента; его секретный резерв никто не должен обнаружить, только он и я знаем, что таковой вообще есть, упрятанный в промасленную бумагу, предохраняющую от сырости. Быть может, в один прекрасный день он поручит мне незаметно извлечь что-то из тайника, деньги, или документы, или что уж ему понадобится, ему не придется тогда мне все подробно расписывать, кивка будет достаточно, я знаю, где все это найти. Нас с тобой, Бруно, никому не одолеть, сказал шеф однажды, но это же он сказал и Доротее, тогда, еще на Коллеровом хуторе, когда мы начинали и все сидели за единственным старым столом, какой у нас был. Теперь я без грусти и думать о нем не могу.
Радость, я доставлю ему радость, не завтра, а уже сегодня; принесу ему подарок, и подарок этот, может, напомнит ему то время, когда