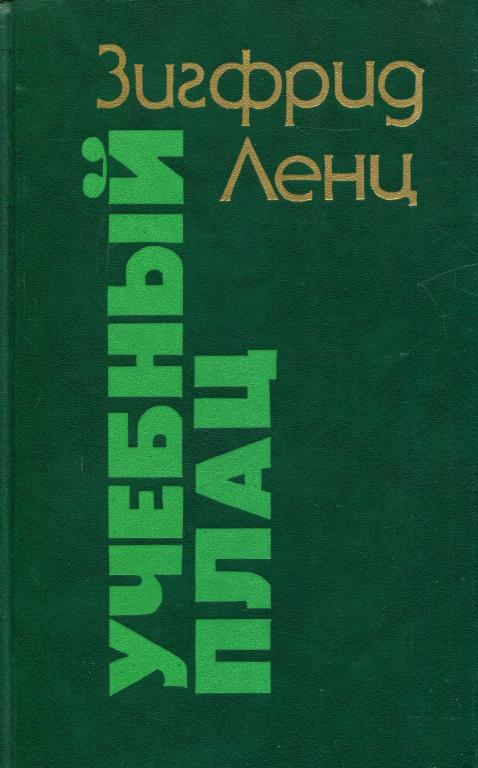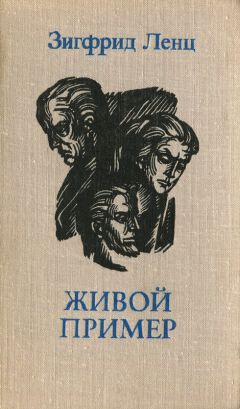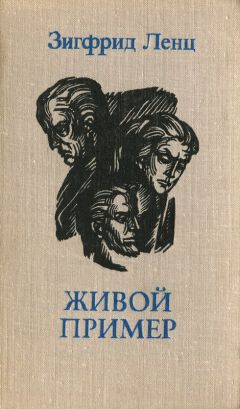говорил.
— Ну что, Бруно, как обычно? Тефтельки свежие.
— Нет, сегодня не надо, сегодня можжевеловой водки, целую бутылку, и красиво ее упакуйте.
Я сразу вижу по ее грустным круглым глазам, что можжевеловой водки у нее нет, ну, так что-нибудь другое, я не знаю что, только бы шефу было по вкусу. Марион кивает, улыбается, она уже знает, что нужно.
— По вкусу ему будет пшеничная, он ее любит. Это подарок?
— Да, — говорю я.
С каким удивлением она на меня уставилась, как пытливо смотрит, так, словно бы я ее разочаровал, и теперь еще раз спрашивает, не принести ли мне то, что она приносит обычно, но я говорю: нет. Почему же она так качает головой в ответ и смотрит на меня так жалостливо? Она получила заказ, этого же ей достаточно, во всяком случае, ждать у ее прилавка я не буду.
— Я скоро вернусь.
— Да, хорошо.
Весы, хотел бы я знать, зачем они именно на станции поставили весы, здесь, где люди только здороваются и прощаются, где все всегда только торопятся, наверняка на этих весах еще никто не проверял своего веса, и я не хочу быть первым. Автоматы со сладостями они буквально выпотрошили, из них даже проволока наружу торчит. Я бы лучше из карьера песок вывозил, чем работал на этой станции, лучше бы торф резал, или осушал болота, или опять собирал камни с полей, как в те времена, вместе с ним. Ничто не повторяется, Бруно, сказал шеф, а сам лежал, точно придавленный грузом. Если бы я только мог ему помочь.
Меня видят, я всей кожей чувствую, что какой-то человек откуда-то на меня уставился, не с пустынной платформы, не от входной двери, нет, он сидит за моей спиной в билетной кассе, за окошечком, полузатянутым занавесками. Возможно, его беспокоит, что я стою так близко, Бонзак, старый Бонзак, который всегда и везде только ворчит и всем недоволен, о котором Макс однажды сказал: прирожденный фельдфебель.
— Чего ты тут слоняешься? — спрашивает он пренебрежительно, глядя на меня своими водянистыми глазами, и уж совсем тихо бормочет: — Недоумок.
— Но мне же можно здесь стоять?
— Ясное дело, — говорит он и ухмыляется, — ясное дело, но не у окошечка. Здесь может стоять только тот, кто собирается купить билет. Это ведь ты понимаешь?
Его ухмылка, его перекошенное злобной усмешкой лицо — Бонзак выглядит так, словно постарел в одночасье, внезапно.
— Или ты собираешься купить билет? — спрашивает он и сам смеется над своим вопросом, а потом объявляет: — Для этого нужны деньги.
Не хочу с ним разговаривать и сразу же спрашиваю:
— Сколько?
— Н-да, — говорит он, — это зависит от того, куда господин собирается ехать.
— В Шлезвиг, — отвечаю я, — дайте билет в Шлезвиг.
Как озадаченно уставился он на меня, теперь он не знает, как ему поступить, этот прирожденный фельдфебель. Двадцати марок, пожалуй, хватит.
— Вот деньги, — говорю я, кладу банкноту на вертящуюся тарелку под окошечком и разглаживаю ее.
Так недоверчиво он еще никогда на меня не смотрел, но он уже взял себя в руки, ухмыляется, пожимая плечами — почему нет? — достает билет с таким видом, словно решил принять участие в какой-то забаве — почему бы нет? — кладет билет на тарелочку.
— Держите, сдачу не забудьте, счастливого пути.
Билет нельзя мять, это мой первый билет, в руке он сразу же потеплел.
— Ой, Бруно, что с тобой? — Марион с удивлением показывает на дверь-вертушку, которую я, видимо, слишком сильно толкнул; пакетик лежит на прилавке.
— Красиво получилось, — говорю я, — пусть шеф не сразу догадается, что там, пусть сперва развернет и порадуется, пока разворачивает. Я сейчас расплачусь.
Почему она так странно смотрит на меня, почему опять спрашивает:
— Что это с тобой, Бруно?
— Со мной вообще ничего, только хочу попасть в крепость до наступления темноты.
— Ни тефтелей, ни лимонаду?
— Ничего, сегодня в виде исключения — ничего.
А она:
— Ты ведь не болен, Бруно?
Быстро пересекаю железнодорожные пути, прохожу мимо новых запрещающих знаков. Зелень уже темнеет. В сумерках все затихает, сжимается и сворачивается калачиком, готовясь к ночи. При ином моем шаге в пакетике что-то булькает, а пакетик-то можно бы завязать цветной ленточкой. Первые летучие мыши уже мечутся над машинным сараем. Тебе не следует оглядываться назад, сказал шеф, иди всегда только вперед, Бруно, пока не достигнешь своей высоты. Вот что он сказал. Мне сразу делается грустно, когда я думаю о нем, когда вижу его на диване, безмолвного и точно укрощенного всем происшедшим, никак не настроенного на еще одну попытку. Возможно, он считает, что его время ушло, это вполне может быть; возможно, считает, что ему нечего начинать все сначала, поскольку не повторится ни радость, ни вера в себя тех первых лет. Эти утра тех времен, эти утра с нашим нетерпением и душевным подъемом, эта бездорожная покрытая рубцами земля, которая ждала нас и каждый вечер отпускала усталыми, но довольными, — такое начало, думает, конечно же, он, дается нам только один раз. Пакетик, пакетик я еще немного украшу, наверняка в коробке у меня есть цветная лента, в коробке из-под ботинок, среди кучи собранных мною шнурков.
Запирать дверь мне, видимо, незачем, во всяком случае сейчас, вполне достаточно задвинуть засов, сегодня этого достаточно. Как все успокаивается, когда я дома, — стоит мне спустить жалюзи и зажечь лампу, как все куда-то отступает. Я дам починить часы, которыми уже многие восхищались. Я еще раз перечитаю книгу, которую Макс посвятил мне. Билет, маленький коричневый билетик: Шлезвиг — все уже там побывали, шеф, Доротея и Ина, даже Магда была там с вещами Лизбет. Магда — она никогда не сочла бы меня способным на такой шаг; насколько я ее знаю, она только глянула бы на меня насмешливо, и больше ничего. А Иоахим, тот наверняка обрадуется, если я отбуду, он и с ним еще кое-кто; только ему, только шефу будет меня недоставать, и он будет обо мне спрашивать, может, даже велит меня искать, ведь по его желанию я должен вступить во владение тем, что он мне предназначил. Я хочу уехать. Из-за тебя, Бруно, сказала Магда, если я верно поняла, также из-за тебя они возбудили судебное дело о признании шефа недееспособным, ведь дарственная предусматривает передачу тебе одной трети всей земли вместе с инвентарем и оборудованием. А этого они не желают и не могут признать.
Я должен уехать. Если меня не будет, так не будет ничего, что стоит между ними, они его простят и отменят дело, которое возбудили, ничто больше не помешает им,