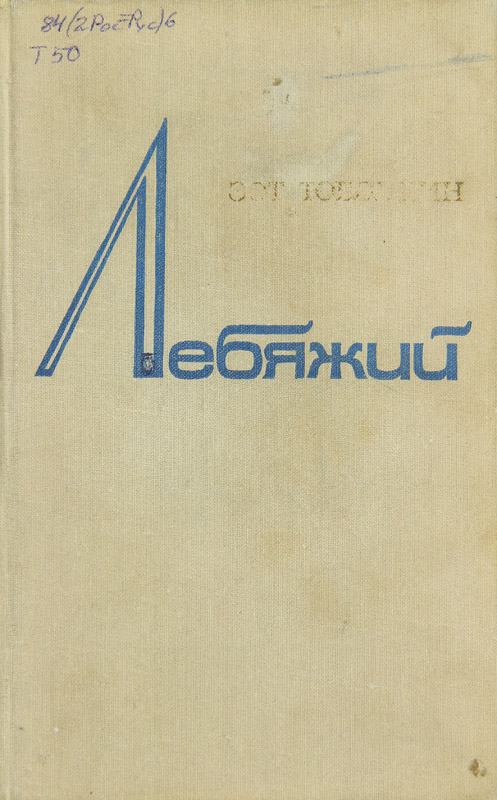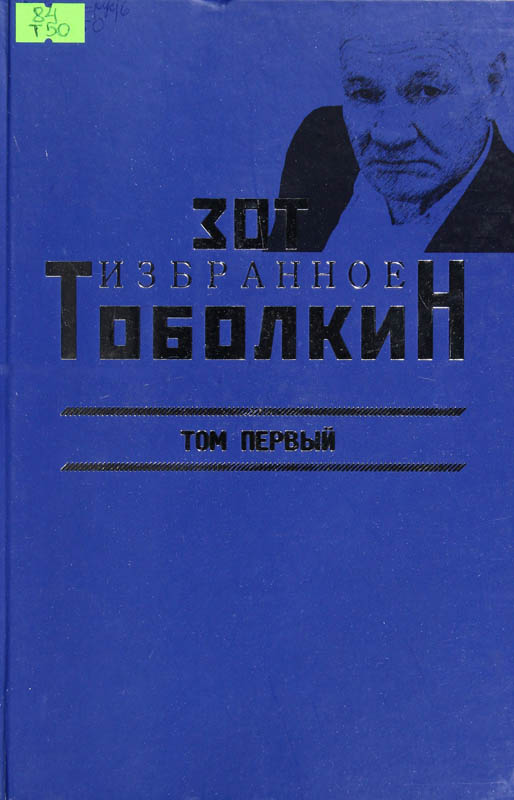Сима, ладонью коснувшись мужнина лба.– Лица нет...
– Зуб разболелся... и кости ломит.
Все болезни свои Степа переносил на ногах. Думал, и эту как-нибудь переможет.
Лукашин, пройдя в другую половину вагончика, настраивал рацию, вызывая скороговоркой:
– База! База! Я пятый. База!
– Слышу, Паша! – точно стоял рядом, ясно отозвался Мухин. – Вы где?
– На Лебяжьем застряли. Как слышно? Прием! – вкладывая в этот вопрос иной, обоим понятный смысл, спросил Лукашин.
– Хорошо, хорошо слышно, – одобрил Мухин. – Почему на Лебяжьем?
– Так все потому же: пути нет дальше. Вот и Истома так считает.
– Верно, верно, Иван Максимыч, – поддакнул Истома. – Пути, значит, нету. Топко тут.
– Ну что ж, до связи. Может, к утру что-нибудь придумаете?
– К утру крылья не вырастут. А без них нам не выбраться.
7
– Бараки куда с добром! – говорил Истома, шагая сугробистым берегом Курьи. Он был крупнее своего спутника, но – странная вещь! – не проваливался. Лукашин то и дело вяз мясистыми, как у быка-шароле, ногами и отчаянно ругался. – Я тут приглядывал за ними, ровно сердце чуяло, что новы хозяева появятся.
– Хозяева-то явились, да мозги дома забыли;
– Чем недоволен, Паша?
– Обогреваться как будем? Одни бочки железные. Наших людей они не обогреют.
– Сложи кирпичные.
– Я не химик: из снега кирпичи не выплавлю.
– Зачем из снега? Верстах в двадцати целый склад готового. Когда-то станцию строить собирались, да не собрались, на ваше, выходит, счастье.
– Верно ли, Истома Игнатьич?
– Как то, что перед тобой стою.
– Ну спасибо, выручил ты меня! А то хоть криком кричи. Или самолетом заказывай из Уржума...
– Услуга за услугу, Паша. Чаишко у меня вышел. Ссуди пачечек десять. После чем хочешь верну: рыбой, мясом или грибами.
– Не обижай, гамаюн! – подсчитывая в уме, сколько и чего может выменять у линейщика, чтобы обеспечить рабочим разносол, говорил Лукашин. – Но если продашь – купим.
Они вышли к стрелке, у которой река разделялась на два рукава. Ближняя заберега подтаяла и парила.
– Землица бочок себе греет.
– Вот скажи кому, мол, в Заполярье теплые источники – разве поверят? – развел руками Лукашин.
– Ты в сараюшку мою заглядывал? Нет? Загляни. У меня там вроде купальни. Бывает, с обхода ворочусь – мозжат косточки. Плюхнусь в корыто, погреюсь – отпустит боль.
– Знатно устроился!
– А как же: не на год приехал!
– Не тоскливо тут одному-то?
– Обвыкся.
– Где, говоришь, кирпич-то? Я хлопцев пошлю.
– Одни не найдут. Провожу.
Они воротились. Подле вагончиков, уминая снег, давя юную поросль, крутился болотник.
– Эй! – загремел во всю мочь Истома. Как из огня головешку, выхватил из кабины невзрачного востроглазого тракториста, тряхнул за шиворот. – Ты сеял тут, пакостишь?
– Пусти! – словно висельник дрыгая в воздухе ногами, хрипел тракторист. – Пусти! Вам же дорогу торю!
– Я те поторю! Я поторю тебе, змей! – взвился Лукашин, с трудом расцепляя зачугуневшие Истомины клешни. – Тут лес – всей тундре награда, а ты...
– Над кустиками крокодиловы слезы льешь, а человека душат – не жалко! – судорожно хлебая ртом воздух, проклекотал мужичонка и, смертно обидясь, пошел прочь. – Для вас, для сволочей, старался.
– Эй, погоди! – окликнул Лукашин. – За кирпичом надо съездить.
– Пошел ты... к ежовой матери!
– Вот пес. Ну и пес! Ты бы полегче с ним, Истома Игнатьич!
– Вгорячах-то гневен бываю... сорвался, – вконец расстроенный тем, что сосняк поувечили и что человека обидел, смущенно винился Истома.
– И следовало проучить. Пускай не проказит. А только владай руками. Очень они опасные у тебя!
За кирпичом поехали Станеев и Степа. Вел трактор Водилов.
– Отсюда напрямки, – проводив их, сказал Истома и, оттолкнувшись, плавно заскользил на лыжах под горку. – По левую руку, сами увидите! – прокричал уже издали.
Трактор взревел под уклон, сломав траками козырек нависающего перед ним сугроба.
– Вон уж видно, – сказал Степа и сипло раскашлялся.
Деревянная крыша сарая, в котором хранились кирпичи, вероятно, надолго была задумана. Но вот поработал здесь маленький червячок-древоед, и земля, словно чуждаясь, отстранилась, просела. Источенные древоедом столбы провисли, обнажив скрытые от людского глаза пороки; крыша