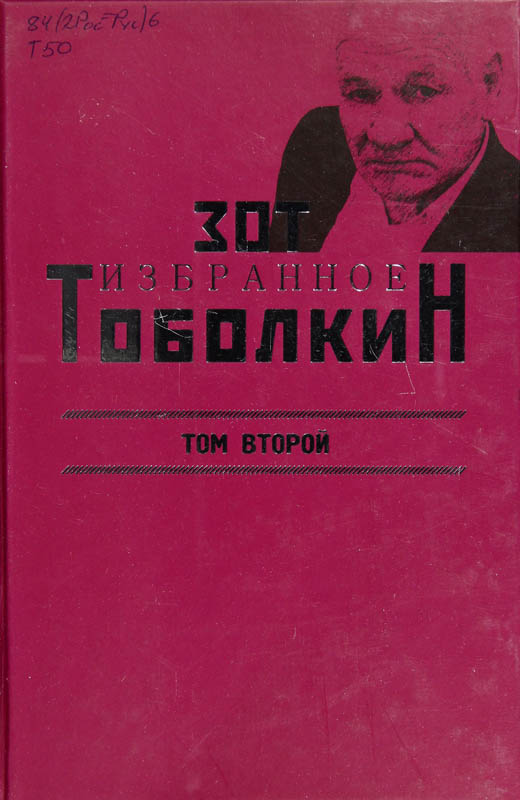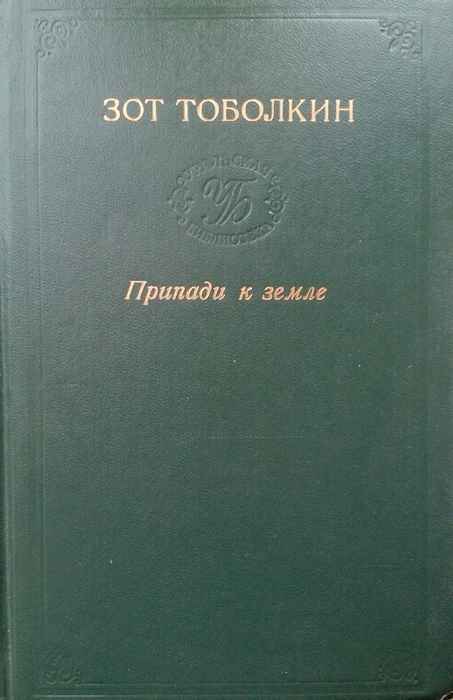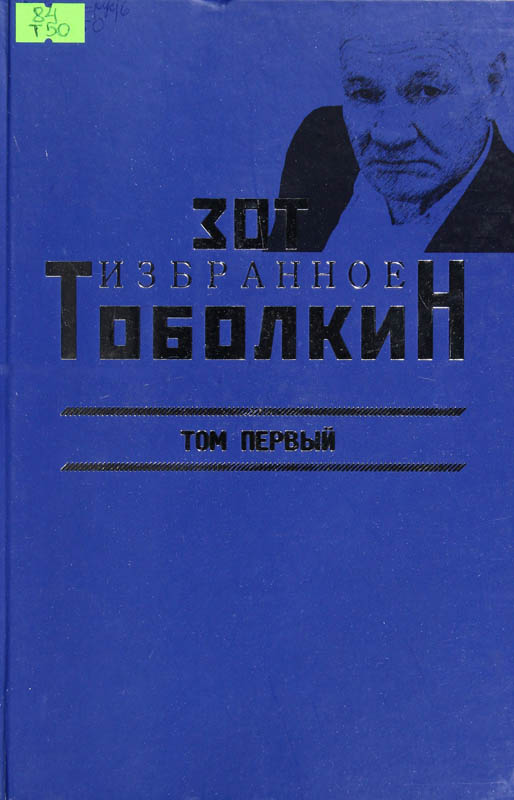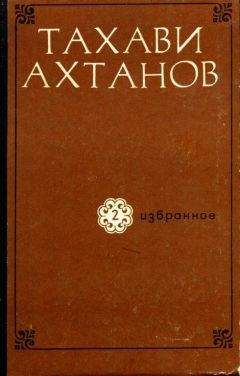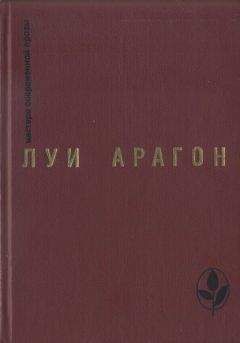Французские краски
Баржа плыла, и волны, как время, облизывали её борта.
Баржа от зорь была алой. Зори художник оставил людям. Они увидят много зорь. Увидит их Димка, Файка и Зойка. Каждому человеку – большой он или маленький отпущен свой век, свои зори. А рисовал их только один Вениамин Петрович. Хорошо рисовал или плохо, не берусь утверждать. Если кто скажет: «Средне», – спорить не стану. Хотя мне его зори нравились. Если всё же они нарисованы средне, то легко объяснить почему: у Вениамина Петровича не было французских красок.
И вот в тот час, когда баржу догнал милицейский катер и капитан велел Ване отдать швартовы, Тимофей вспомнил об этих красках.
- Я так и не отдал ему! – огорчился цыган.
- Сейчас отдашь, – улыбнулась Наташа, и вертолёт взял курс на юг. Вскоре он оказался над баржей, но при виде милицейского катера снижаться не стал.
- Не надо, – сказал Тимофей лётчикам, – у цыган есть примета: если ты встретился с милиционером – перейди на другую сторону.
- Правда, правда, – подтвердили Файка-Зойка, и коробка с красками упала на палубу как раз туда, где лежал художник.
- Поздно, – вздохнул Димка. – Теперь они не нужны.
Вертолёт, дав круг над рекою, ушёл на Варь-Ёган.
А капитан допрашивал онемевшего от страха Ваню. Тот что-то лепетал в ответ, пока Анфиса Ивановна не прогнала его прочь и не объяснила, как Ваня стал владельцем казённой баржи.
«Ну вот, – усмехнулся капитан, жалея о напрасно потраченном времени. – Искал, нашёл... Теперь эта баржа снова будет ржаветь на приколе...»
Далеко на Севере Димку ждали Чёртовы острова.
«Я побываю там, – шепнул он мёртво улыбавшемуся художнику. – Я обязательно там побываю».
Вставала заря. Первая, которую Вениамин Петрович не увидит. Уж теперь-то, имея французские краски, он нарисовал бы её замечательно...
«А может, мне попробовать? – подумал Димка. Он года три ходил в школу изобразительного искусства, но заскучал и бросил. – Пожалуй, попробую... Ведь кто-то должен рисовать зори...»
Баржу качнуло, и Димке показалось, будто художник одобрительно кивнул: «Правильно решил, мальчик, правильно!».
«Комары куда-то подевались! – подумал Димка, с удивлением обнаружив, что кровососы впервые его не кусают, не слышно над головой их надоедливого нытья. Комаров было полно вокруг, но у Димки отчего-то заложило уши; и мир без художника не звучал. Да и укусов мальчик не чувствовал. «Старею, наверно, – решил он. – Комары старую кровь не любят. А я постарел за это время...»
Он не постарел. Он просто вырос, как может вырасти маленький человек за месяц. Сила, мудрость и доброта старого художника передались Димке. Это добрая сила. Это сильная доброта. Не расплескай их, Димка!
- Простись с другом-то, – сказала Анфиса Ивановна. – И дай бог тебе, паренёк, иметь в жизни хотя бы ещё одного такого друга.
- Прощайте, Вениамин Петрович, – прошептал Димка перед тем, как капитан забрал его в свой катер.
Катер полетел на подводных крыльях к Тюмени, и никто из встречных не знал, сколько пережил сидящий рядом с милиционером мальчишка. И капитан этого не знал. Не знал даже вездесущий Вася Кузьмин. Возможно, узнает позже и напишет про Димку очерк. Как всегда, торопливый.
А катер мчится. И под килем семь футов...
КОЛОДЕЦ
Помню, со службы домой возвращался. У Земляного скучал в борозде оранжевый трактор. Тракторист, верно, удалился на вечер в деревню, а может, отсыпался в поредевшем березняке, сеявшем жёлтые листья.
Отзеленел своё березничок и возвращает земле ею подаренное убранство. На, мол, родная, укройся, чтоб не озябнуть. И – на плечи ей в золотой бахроме полушалок.
Октябрь. Покоя и грусти полна земля. Хлебов уж нет. И поле вдоль тракта в рыжей стерне. Ещё не выветрился дух пшеничный, бензиновый чад, а к ним уже добавился запах соломенной гари и прели.
Из рощицы махорочная видна макушка зарода. Наверно, недоспело сенцо – сырым сметали, вот и чернеет. Тракторист, если и спит, то скорее всего, в тёплом сене.
Затаив шаг, обхожу болотинку, которая за три года усохла и облысела. Бородавчатые кочки стянуло травой и побуревшей осокой. Внизу что-то пышкает, и этот клочок умирающего безобразия кажется мне одушевлённым. У запущенного колодца остановился, потрогал обрывок цепи на валу. С истлевшего сруба, на котором дремали мокрицы, пахнуло плесенью. Из углов тянулись кверху квёлые, на тонких ножках грибки. Вода зоревая, студёная зацвела и тёмными заплатами проглядывала из-под мокнущих щепок, колёсной ступицы, палок, опила. Одно из пятен отразило сумрачное скуластое лицо с неухоженными бровями, с широким раздувающимся носом, с каменными губами. Но всё