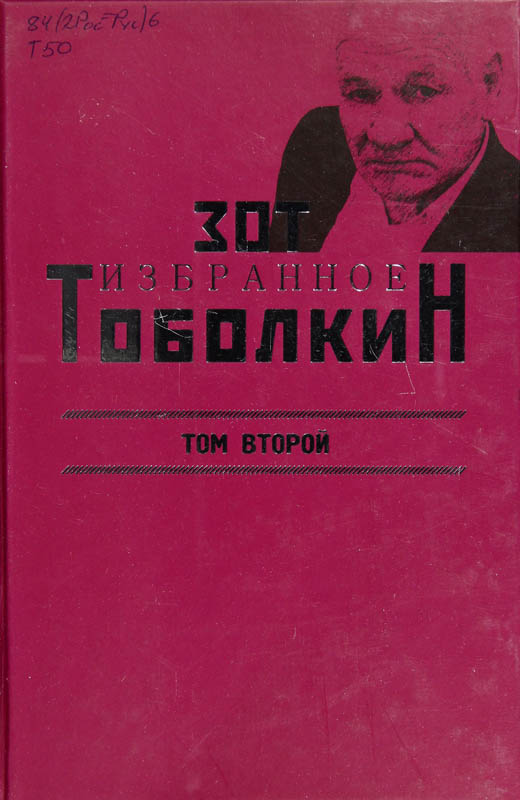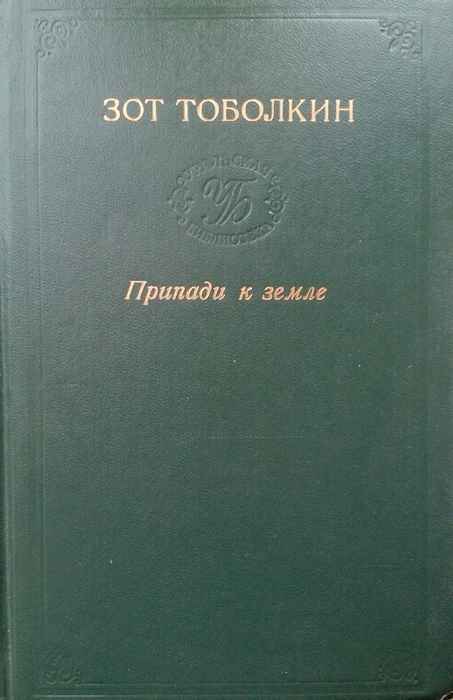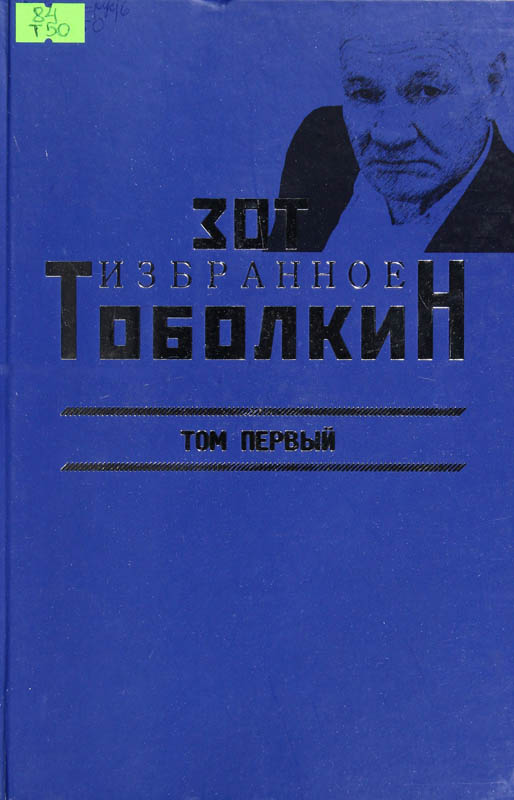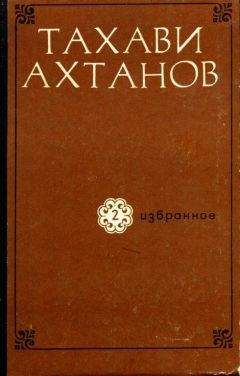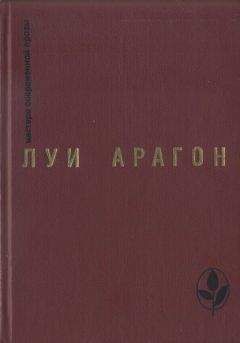это, даже пилотку со звёздочкой, заслонило куполом толстой ладони, опустившейся к воде. «Странно как со стороны-то себя наблюдать!» – подумалось. Ладонь свычно разгребла сор и зелень, помокла раздумчиво и, перевернувшись, стала сосудом, полным знобящей влаги. Сухие, жёстко сомкнутые губы вытянулись свисточком и неожиданно нежно всосали затхлую воду. Язык понянчил её, поласкал и, не скупясь, протолкнул в гортань. По всему телу разошлась влага, и, может, избыток её сверкнул в расширенных, скрытных глазах. Две капли сорвались вниз: одна – в ладонь, другая – в колодец. Дальняя звонко тенькнула, и человек в колодце («Я это или не я?») торопливо сдвинул туго натянутые веки.
- Эк тебя! – проклекотал он, досадливо и, снова зачерпнув, оплеснул лицо, отёр платком щёки. – Так вот, тятя... Зря мы, выходит, колодец-то рыли. Отпала нужда – сиротствует...
С неведомых мне времён здесь был полевой стан, на котором неделями жили пахари. Для них и копали мы этот колодец. «Колодец, сынок, тут во как нужен!» – говорил отец, подавая мне бадью за бадьёй.
Я рвал с пупа, высыпая тяжёлую липкую землю. Ладошки нестерпимо горели.
- Чо морщишься, пыхтун? – видя недовольное моё лицо, ворчал отец. – Пойми, неразумный, колодец строим! Слышь, ты? Ко-ло-дец! После подойдут к ему устамшие люди, попьют водицы из ковшичка и нас помянут: «Ага, тут эть Корнил Тоболкин с парнишчонкой своим ковырялись. Дай им бог здоровья!».
Я посапывал и не отзывался. Отец – молчун, и я в детстве был такой же молчун. Зато мать поговорить любила. Кого ни встретит на улице – остановится, посудит. Лишнего, однако, не обронит: всё к делу.
В обед, принимая от меня бутыль с молоком, отец скосил глаза на мои ладошки и жалостливо скривился:
- Ух, поселенец! С такими-то руками какой из тебя работник? Ступай за подорожником!
Перевязав мои руки, велел идти спать. Я лёг было, обрадовавшись долгожданному отдыху. Но, полежав чуток, устыдился и стал опять у колодца. Зато как радостно было, когда испробовал первым вот этой самой подземной водицы. Недалеко она было, неглубоко. Со временем почему-то поднялась ещё выше. Уж и без ворота зачерпнуть можно. Моя вода, отцова вода... сла-адкая!
Долгие годы колодец служил людям верой-правдой. Воды хватало и на питьё, и на баловство. В Иванов день, бывало, подкрадётся скорая на ногу деваха – парню из ведра за ворот! Черно вокруг станет, знобко! Чёррт! Зубы чечётку выбивают. Очухается парень и – вдогонку за ней. А там, в кустах, девка сама в руки дастся. Может, для того и облила, что не терпится залётку обнять, а на людях стыдно. Случалось, сам в кусты побегивал, догонял кого-то...
«Отслужил, стало быть», – посочувствовал я колодцу, прикрыл его ветхий сруб рассохшимся творилом, валявшимся тут же без петель, утыкал щели травой.
А трактор томился, привязанный к пролеску сучёной вожжой борозды, ждал исчезнувшего хозяина. Вот явится он, и рядом с первой бороздой ляжет вторая, третья... всё поле заворонеет, залоснится тугими пластами. К запахам прежним добавится новый, глубинный, и звуки вокруг станут иными, и по раздвинутому пространству, дивя глаз, покатятся мятежные чёрные волны. Полюшко-поле...
Есть в осени какая-то загадочная влекущая тайна: хочется коснуться её и боязно касаться – вдруг исчезнет с разгадкой трепетное предчувствие лучшего!
А трактор стоит... Зажмурясь, шагнул я в поле, точно с крыши прыгнул. Под ногою хрупнуло что-то. «Груздь!» – угадал по звуку, но не наклонился, а почти побежал к трактору. Только одно теперь важно, только одно: лишь бы трактор был на ходу, лишь бы заправлен горючим.
С готовностью взверещал пускач, и вскоре к его заполошной трескотне подключился внушительный бас дизеля.
«Ну, тронули!» – трактор легонько взял с места. Из-под лемехов аккуратные змеились пласты. Оглядываясь и вздрагивая от счастья, я привычно тянул на себя и отталкивал рычаги. «Жданка моя! Жданушка!» – бормоталось в гуле, но своего голоса я не слышал, а слышал только, как лупит в грудную клетку нетерпеливое сердце, как жарко коробит пылающие щёки.
Поле гектаров во сто. Гон – без малого километр (от колка до дальней рощицы), а мужичина, которому кабина мала, щенячьи взвизгивает и готов прыгать от счастья соприкосновения с родимой землёй, кататься по ней и кричать от пьянящей радости. Воля же, отчий край! Три года ждал я этого мига. Да простят мне отцы-командиры, но в последний месяц службы я чуть не удрал. Душа домой рвалась, ныла, и всё казалось: вот-вот начнётся война и я уж не увижу родное гнездовье, не попью воды из своего колодца.
Сбылось. Увидел...
Солнце справа запало, заря набухла рябиново, и над Земляным родилась первая звёздочка. Долго ей, крохотной, зреть, расти до блистательного сиянья. Да не успеет рассияться, пожалуй. Коротка ночь.
Я включил фары, и впереди чётко обозначилась борозда, над которой роилась в луче припоздалая мошкара.
Теплынь, словно август ещё за окнами кабины. И мнится мне, что и теплынь эта, и всё, всё на свете ради меня.
Небо обнимается с землёй, звенит светлыми звёздами, покачивая медленной бляшкой луны, и шелестит голубой прохладной мантией. В честной, в нестареющей красоте его всё вечно, всё надёжно, и земля доверяет ему себя безоглядно, полно, застенчиво обнажив литое, без единой порчины тело. В их вечном, тихом соитии даже неопрятные душою люди не замечают греха: грех ли – продление рода, грех ли – жизнь?
...Над березняком, через который просматривались редкие огни деревни, колыхалось пухлое облако. Под его колыханьем смутно белели стволы ближних берёз, ершились кусты малины, а в середине опять затаился осевший зарод. Всё это выхватил рассеянный луч левой фары, правый был уже направленней. Когда в деревне погасла одна из ламп – сердце дрогнуло. Неужто лампа в моём доме? Ждите меня, ждите!
Но трактор повернул вспять, и оторваться от него, кинуть гон на половине, на полпути от колодца, не хватило сил. Досадливо хоркнув, рванул