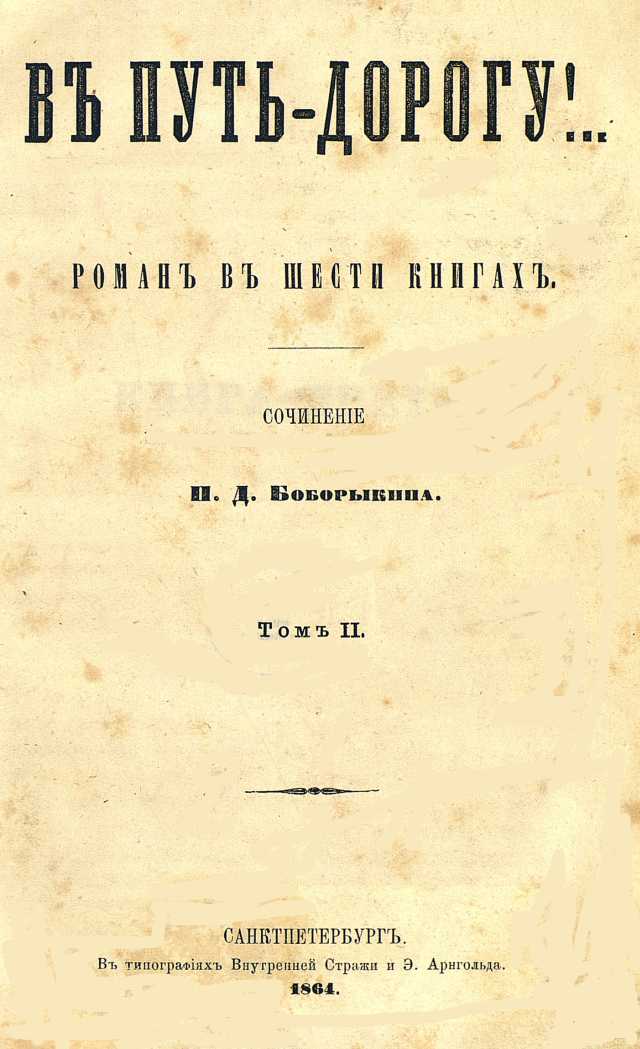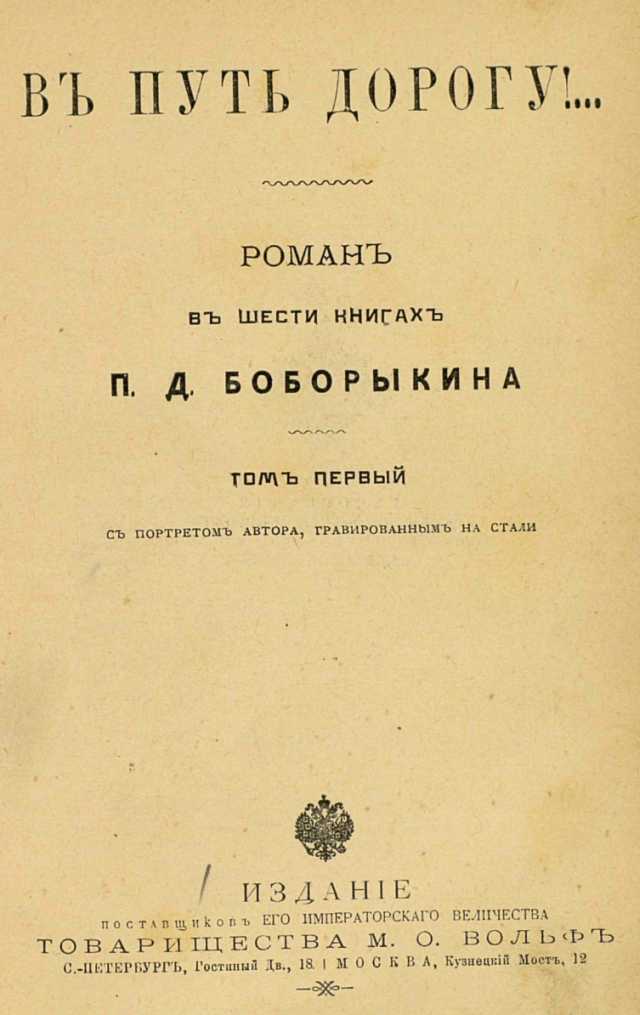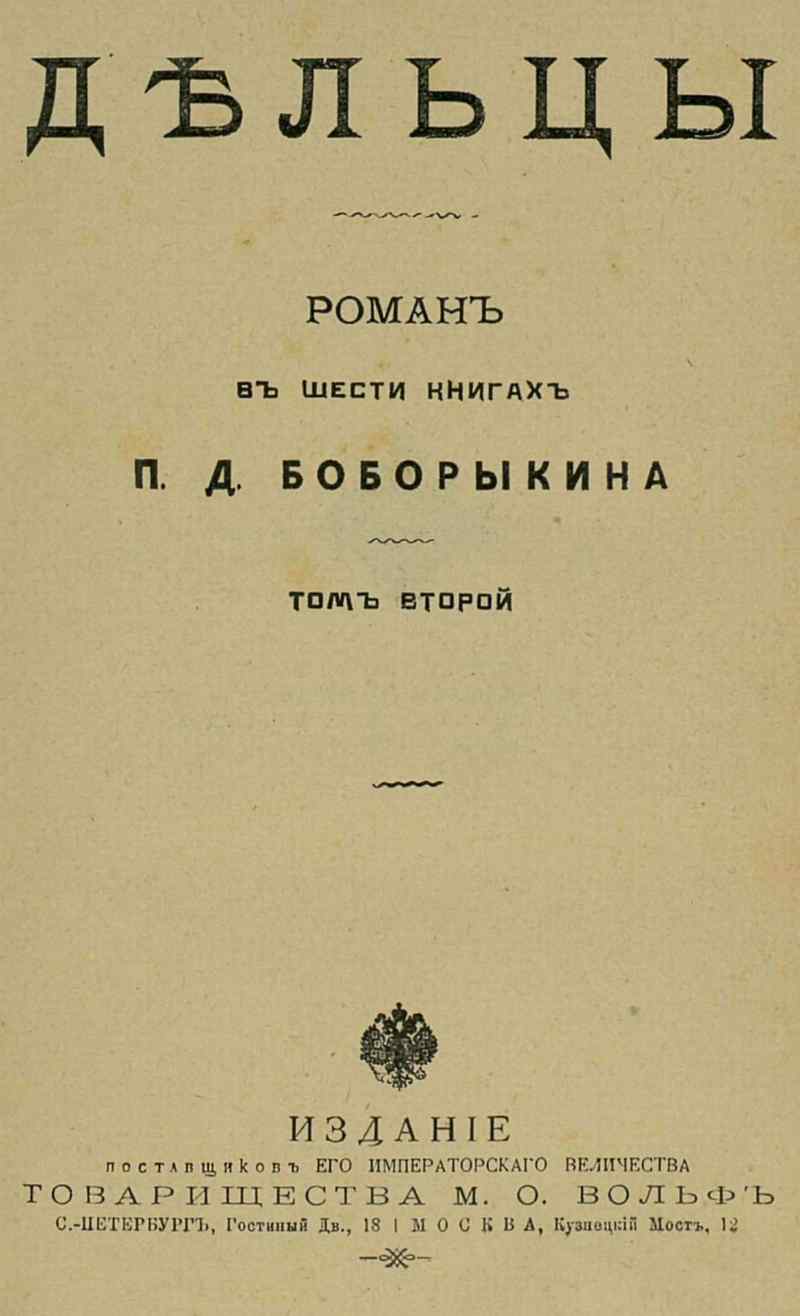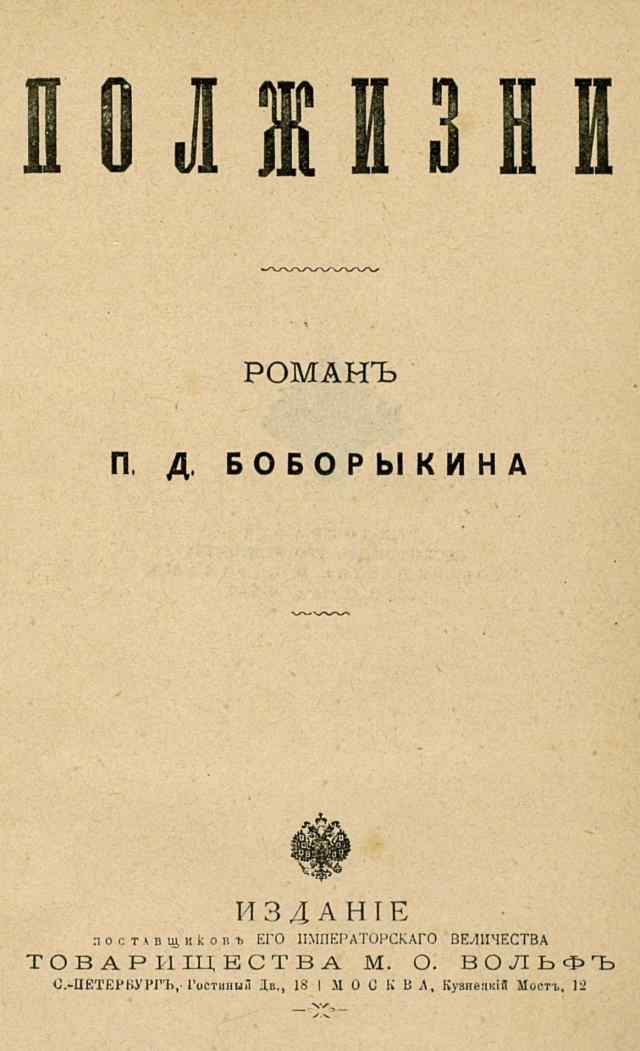спросить у кого-нибудь, въ которомъ часу ректоръ принимаетъ?
— А это, что за домъ? спросилъ Телепневъ, указывая на зданіе, которое стояло насупротивъ университета, по ту сторону площадки.
— Вывѣски нѣтъ, а внизу, вонъ посмотри — аптека. Должно быть университетское что нибудь.
— Вѣрно клиника, замѣтилъ Абласовъ.
Они перешли улицу и поднялись на ступени параднаго подъѣзда. Первый вошелъ Горшковъ. Было уже довольно темно, но можно было разглядѣть огромные сѣни, которые шли поперегъ всего зданія и оканчивались двумя парадными лѣстницами; потолокъ подпирался въ разныхъ мѣстахъ четве-роугольными столбами со сводами. Въ нишахъ стояли поясные бюсты великихъ мужей, подъ бронзу, на довольно грязныхъ алебастровыхъ пьедесталахъ. Въ сѣняхъ царствовала совершенная пустота. Шаги вошедшихъ звонко отдались на чугунномъ полу.
— Вотъ швейцарская, сказалъ Горшковъ, указывая головой на небольшую дверку вправо.
Онъ подошелъ къ ней и постучалъ. Дверка отворилась и вылѣзла голова въ высокомъ картузѣ съ голубымъ околышемъ, а затѣмъ показались огромные бакенбарды.
— Чего вамъ нужно? спросилъ швейцаръ.
Горшковъ вѣжливо съ нимъ раскланялся. Телепневъ и Абласовъ стояли нѣсколько поодаль и ближе ко входу.
— Скажите пожалуйста, началъ Горшковъ чрезвычайно сладко, гдѣ живетъ ректоръ?
— А вотъ вы домъ-то прошли, угловой-то, что въ переулокъ выходитъ.
— А какъ его зовутъ?
— Швейцаръ взглянулъ на Горшкова отеческимъ взглядомъ.
— Вы изъ новичковъ, что ли?
Горшковъ нисколько этимъ не обидѣлся, но не счелъ нужнымъ отвѣчать, а только опять повторилъ вопросъ.
— Зовутъ Михалъ Иванычъ.
— Онъ статскій или дѣйствительный статскій совѣтникъ? допрашивалъ Горшковъ.
Швейцаръ затруднился.
— Какой чинъ на немъ?
— Извѣстно, генералъ.
— Значитъ, штатскій генералъ, повторилъ Горшковъ и захохоталъ.
Швейцаръ такъ тряхнулъ головой, точно хотѣлъ обругать юнаго питомца просвѣщенія; но обругать не обругалъ, а скрылся въ свою конурку. Но Горшковъ этимъ не унялся, онъ. опять стукнулъ въ стеклянную дверку швейцарской. Голова высунулась.
— Да чего вамъ нужно?
— Главнаго-то я тебя не спросилъ, любезный другъ, заговорилъ Горшковъ, подпирая себѣ руки въ бокъ: въ которомъ часу ректоръ-то принимаеть?
— Почемъ я знаю, заворчалъ швейцаръ, видимо смущенный такою фамиліарностью; подите туда спросите, тамъ есть сторожа.
— Да ты, дяденька, не серчай, произнесъ Горшковъ, дѣлая гримасу: мы люди заѣзжіе, ты намъ толкомъ скажи.
Швейцаръ ухмыльнулся и милостиво отвѣчалъ:
— Ступайте завтра въ'половинѣ одинадцатаго, въ самый разъ попадете, и за тѣмъ голова скрылась уже безвозвратно.
— Ну идемъ, больше толковать нечего, проговорилъ Абласовъ; тутъ видно служительство-то не лучше нашего гимназическаго.
— Да, не лучше Егоркиной команды, подхватилъ Горшковъ, и, бросивъ еще разъ взглядъ на бюсты знаменитыхъ людей, вышелъ съ товарищами на улицу.
Сумерки совсѣмъ уже сгустились. Лунный свѣтъ отражался на бѣлыхъ стѣнахъ университета и на золотыхъ крыльяхъ ор.іа, повѣшеннаго надъ аптечной вывѣской. Стояла теплая, невозмутимая погода. Но наши заѣзжіе верхнегородцы впервые почувствовали какую-то влажность въ воздухѣ, что-то туманное и болотистое. Еще разъ остановились они на площадкѣ, прислушиваясь къ ночнымъ звукамъ города. Откуда-то несся отдаленный стукъ дрожекъ, собака гдѣ-то залаяла густымъ басомъ и брякнула цѣпью, — долѣтали отрывистые фразы гуляющихъ. Потомъ вдругъ послышалось отдаленное хоровое пѣніе.
— Чу! какъ отхватываютъ! крикнулъ Горшковъ, кто бы это?
— Мастеровые должно быть, проговорилъ Телепневъ. А какую пѣсню поютъ, Валеріанъ?
Горшковъ прислушался съ видомъ, знатока, и даже почему-то снялъ фуражку.
— Поютъ „Ахъ Дунай, ты мой Дунай“…
Не успѣли они отойти нѣсколько шаговъ, какъ сзади ихъ загудѣлъ другой хоръ, составленный изъ мужскихъ и женскихъ голосовъ. Пѣніе происходило гдѣ-нибудь по близости, на университетскомъ дворѣ, или на той же площадкѣ, гдѣ они стояли.
— Что за оказія, крикнулъ Горшковъ, да здѣсь Венеція! Тутъ, видно, дѣвки хороводы водятъ! Это должно быть вонъ за угломъ, пойдемте-ка, братцы, послушаемте!
И дѣйствительно, за угломъ того зданія, которое Абласовъ назвалъ клиникой, стояла цѣлая толпа. Она составлялась изъ университетскихъ сторожей, водовозовъ, клиническихъ служителей, фельдшеровъ, прачекъ и кухарокъ. Но кромѣ участвующихъ въ пѣніи, зѣвающаго народа не было. Видно было, что такія вокальныя упражненія въ нравахъ города, и не обращаютъ па себя общественнаго вниманія.
— Каковы нравы-то! говорилъ Горшковъ, подходя къ тол-пѣ, первобытная, братецъ, простота, и что за пѣснь такая прислушаемъ-ка, я ее не знаю…
А пѣли, дѣйствительно, какую-то курьозную пѣсню Горшкову удалось подхватить припѣвъ, начинавшійся словами:
„Ты скажи-ка, разскажи-ка,
Сазанъ Тимофеичъ!
Ты скажи ка, разскажи-ка
Про кувшинно рыло.“
— Восторгъ! крикнулъ Горшковъ. Вы только вслушайтесь, братцы, это просто первобытныя времена!
Онъ не утерпѣлъ и обратился-таки съ распросами къ одному изъ участвующихъ въ пѣніи, курчавому и рябому фельдшеру, отъ котораго несло спермацетовой помадой. фельдшеръ обстоятельно разсказалъ ему, что пѣніе происходитъ каждый вечеръ, когда хорошая погода, а пѣсня дѣйствительно такъ и называется: Сазанъ Тимофеичъ. Удовлетворившись этими, объясненіями, Горшковъ объявилъ товарищамъ, что на первый разъ они осмотрѣли довольно и можно итти домой, чтобъ завтра пораньше проснуться и успѣть написать прошеніе ректору.
IV.
Заспанный Яковъ, встрѣтилъ въ номерѣ друзей нашихъ и помогъ имъ раздѣться.
— Ну, что жъ ты, братъ Яковъ, скажешь про татарскую столицу? спросилъ его Горшковъ, потягиваясь въ кровати.
— Да что, сударь, угрюмо отвѣчалъ неизмѣнный камердинеръ: городъ людный, да сразу не разглядишь; спички вотъ дешевы…
Больше онъ не выражалъ никакихъ сентенцій не только въ этотъ вечеръ, но во весь годъ, послѣдовавшій за этимъ вечеромъ.
Всѣ трое очень устали и сонъ скоро овладѣлъ ими. Только Горшковъ не могъ сразу угомониться.
Онъ, засыпая, все-таки задалъ нѣсколько вопросовъ Абласову и Телепневу, которые помѣстились въ другой комнатѣ. Но каждый изъ нихъ заснулъ съ чувствомъ новаго мѣста, и съ тѣмъ пріятнымъ волненіемъ, какое испытываетъ всегда молодая натура, перевертывая новую страницу жизни. Ночная свѣжесть входила сквозь открытое окно и Телепневъ, закутавшись въ одѣяло, дышалъ легко, и ему не снились темныя картины прошлаго, а напротивъ, онъ летѣлъ по какому-то свѣтлому, ярко-лиловому небу, и чѣмъ выше поднимался, тѣмъ ему становилось легче и легче дышать…
И спали юноши — добрымъ, крѣпительнымъ сномъ. И не одни были они въ эту минуту. Въ разныхъ уголкахъ города, по разнымъ квартиркамъ засыпали также новопріѣзжіе гимназистики, и всякому изъ нихъ, кто видѣлъ предъ собой двери университета, дышалось такъ хорошо, какъ потомъ не будетъ уже дышаться, при полученіи разныхъ дипломовъ и должностей.
Утромъ, часовъ въ семь, Яковъ разбудилъ Бориса. Телепневъ, проснувшись, еще въ первый разъ подумалъ о томъ, какъ ему поступить въ университетъ и на какой факультетъ. Его, безъ всякаго сомнѣнія, примутъ безъ экзамена, какой бы факультетъ онъ не выбралъ. Его потери и болѣзнь совершенно перервали въ немъ нить желаній и замысловъ, которые онъ связывалъ съ мыслію объ университетѣ. И трудно ему было въ эту минуту собраться съ мыслями, такъ какъ хотѣлось…
Чрезъ