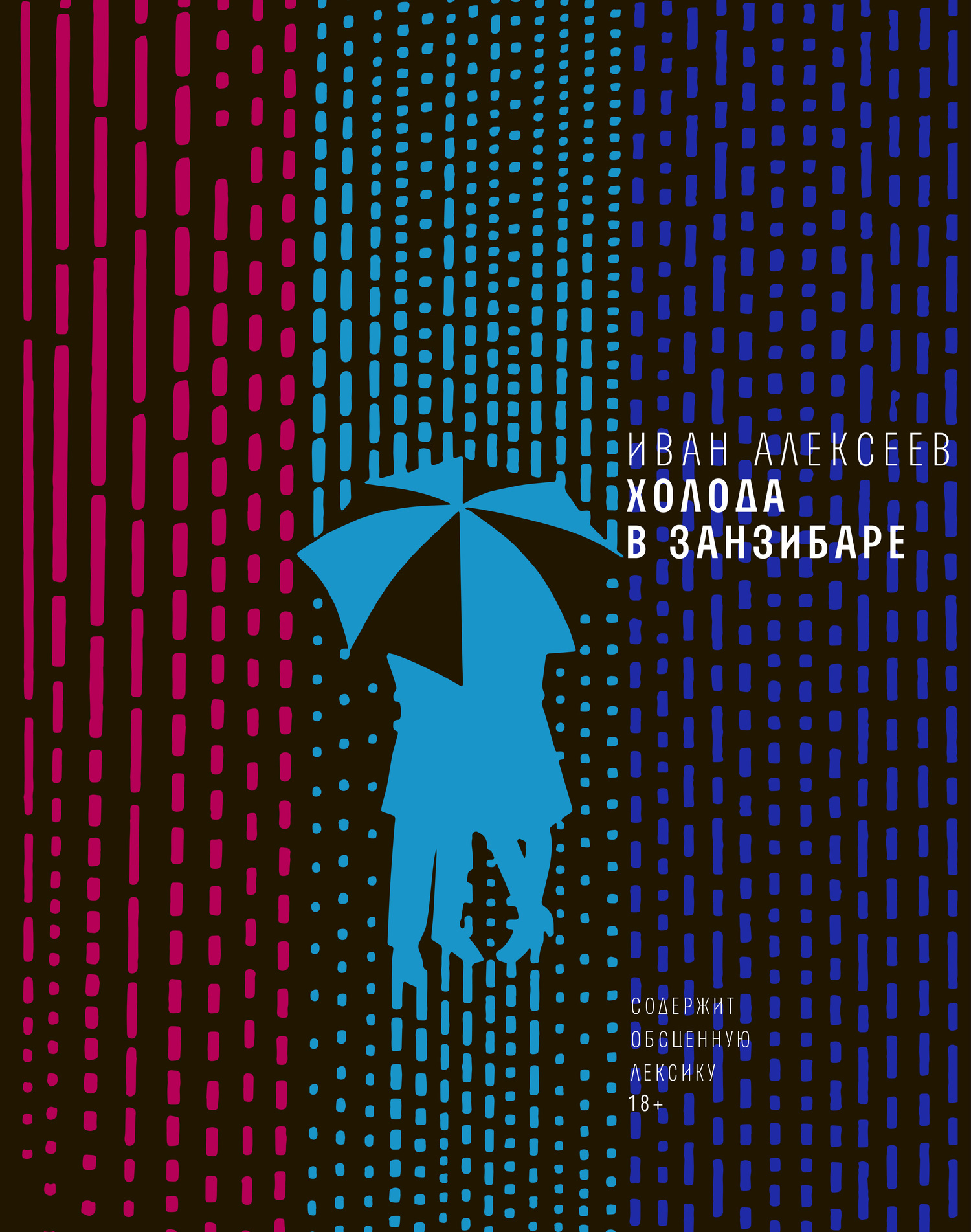было у нее спустя три дня, когда, уволившаяся, выписавшаяся (если не врала) из общежития, она вышла с чемоданчиком на бетонное крыльцо, а он уже ждал в жарко натопленном, взятом у отца автомобиле.
Дорога была скользкой, не ехали – ползли. Молчали. За Егорьевском она достала косметичку, зеркальце, привела в порядок сначала один глаз, потом другой, нанесла румяна, пудру, накрасив губы, пробежала по ним кончиком языка.
– И что я им скажу?
– Соврешь что-нибудь.
– Сыграем в «Занзибар»?
Пожал плечами:
– В эту игру не играют два раза.
– Ну пожалуйста.
Он не складывал, не вычитал, не делил – назвал первое подвернувшееся число: сорок три.
– А у меня ноль, – засмеялась она, – твой рубль!
Уже в темноте въехали в светлую от нового снега, с желтыми, повторенными в сугробах окнами, деревню, и сразу же – темнота сеней, кислый запах жилья, бледное пятно телевизора, мелкий мужичок в синей майке и в круглых очках с перебинтованными изолентой дужками, а наискосок, через избу, – женщина с узловатыми, изработанными руками, с тяжелой, наперевес, сковородой, шипевшей салом. «Муж», – представила ты меня, и я тут же – за знакомство – задохнулся от крепкого самогона. На стене, заклеенной обоями прямо по бревнам, отсвечивала стеклом рамка, набитая водянисто-серыми, разного калибра лицами анфас: оказалось, что где-то в городе Сочи у тебя сестра, замужем за милиционером, и брат был, да помер, опившись какой-то дрянью. В хлеву, обросшем длинными ледяными иглами, на него влажно взглянула корова, и твой отец, одетый уже в рубашку, спросил:
– А зарабатываешь сколь?
Откуда-то набирались и рассаживались за столом люди с чем-то неуловимо повторявшимся в лицах, наливали, закусывали, и он, не удержавшись, потянулся за скользким грибком, и вдруг ты – в белом до пят платье.
– Дядя Никиша, давай русского! – крикнула ты через стол, и тотчас на пол-избы разъехалась гармонь, половицы заходили ходуном, и вазочка, пустая, без воды, стоявшая на телевизоре, стронулась и пошла к обрыву… Во внезапно наступившей тишине – ты, мраморная от света из-за перегородки, не достававшей до потолка, покачиваешься, как в седле, на неторопливой рыси. И когда хлынула влажными губами в мой рот, я вспомнил, как однажды, на Чистых прудах, в ресторане с индийской кухней «Джалтаранг», мы ели странного вкуса салат из каких-то сладких фруктов, перемешанных с горькими, кислыми, солеными овощами – странное ощущение свежести и противоестественности.
Утро было серое, дорога пустая. У окружной:
– А потом? – спросил я.
– Скажу, что ты умер. Не бери в голову. Останови – я выйду.
* * *
Липа шумит; ветер; по небу расползается тяжелая, с свинцовым подбрюшьем туча – нужно собрать и укрыть инструмент, нужно закрыть в машине окна, нужно понять что-то важное. Завтра приедут Галя с Сережей, и это хорошо, я скучаю без них. У Сережи больные почки, а вода здесь плохая, жесткая, с привкусом. Я люблю, когда Сережа смеется, и, может быть, все не так уж плохо и ты жива. Конечно же, думаю, жива – ведь чем лучше соврешь себе, тем счастливей будешь.
– Так, Михалыч? – спрашиваю я.
– ……!
Михалыч привез пиво.
Мой миленок не форсит,
Жрет горстями тубазид!
У него каверна,
Он помрет, наверно!
Из больничного фольклора
Прозвищем ее наградила санитарка-пьяница; уже уволенная, уже с подписанным обходным, уже свободный человек, санитарка, прежде чем хлопнуть дверью, громко на все отделение выразилась: «Бельдюга!»
Была такая рыба – будто волной вынесло ее из морских пучин на московские прилавки как раз в ту пору, когда треска только начала мельчать, но еще не исчезла, когда появились сигареты «Союз Аполлон», в моду вошли брюки-«слоны», а Метростроевская даже не подозревала, что она Остоженка.
Сколько лет прошло, а вспомнила бельдюгу санитарка.
Как выглядела эта рыба, ныне знает только ихтиологический словарь, но заведующая, скорее всего, и тогда ее не покупала, единственно из-за этого ужасного имени. Один острослов из больных вспомнил, что одновременно с рыбой бельдюгой появилась и рыба пристипома, но шутка не прижилась, это было уже слишком.
Бельдюгу уважали.
Больные, лишь заслышав властный цок ее каблучков по коридору, длинному и гулкому, тут же распахивали форточки (Бельдюга не терпела духоты), прекращали ссоры, торопливо наводили порядок в тумбочках и настороженно поглядывали на дверь; когда она входила, почтительно поднимались, если, конечно, по режиму считались ходячими.
Было в Бельдюге что-то, от чего здоровенные, видавшие виды мужики чувствовали себя в ее присутствии нашкодившими малолетками: может, в глазах, карих, не стеснявшихся разглядывать в упор? А может, в высокомерном постанове головы на длинной шее, прикрытой сзади промытыми каштановыми волосами, из-под которых через плечи на грудь перекидывались прозрачные трубки фонендоскопа? А может, в улыбке – всегда сдержанной и как будто незавершенной? Но неизменная пачка сигарет («БТ»), что просвечивала через кармашек на бедре ее белоснежного приталенного халата, наполняла мужские сердца робким теплом: все-таки – слабость, все-таки – недостаток, все-таки – женщина. И удивительно – ни одному записному похабнику не пришло в голову кинуть сквозь зубы ей вслед, например, такое: «бабец в габаритах!» – просто как-то само собой, не выговаривалось, и все тут.
Больные выздоравливали, выписывались, разъезжались по домам и санаториям, и если потом вспоминали Бельдюгу, то как-то странно: сначала пальцы – тонкие, ухоженные, с продолговатыми, коротко остриженными ногтями под бесцветным лаком и всегда холодные особенным докторским холодом – холодом чистоты и знания; и только потом вспоминали цок каблучков по коридору и ее саму, в рост.
Бельдюга вникала в лечение каждого больного, хотя в подчинении у нее числились двое врачей (зануда), доводила сестер до истерик со швырянием на стол заявления по собственному (стерва) – зато отделение слыло образцовым и расхождения диагнозов случались редко. Сложнее обстояло с санитарками – те понимали, что более или менее нормальному мужчине, который лежит на лечении полгода и чувствует себя здоровым – это только на рентгене видно, что туберкулез, – необходимо расслабиться, чтоб не сжечь в бездеятельности нервы, и подрабатывали, таская в отделение водку; пить просили тихо, бузы не поднимать, не подводить их, а то Бельдюга, сами знаете, на расправу скорая (ханжа). Бельдюгу побаивались. И осуждали.
Осуждали за внешний вид: одинокой (а по мнению большинства – безнадежно одинокой) сорокалетней заведующей не пристало и даже неприлично одеваться по моде, ходить без лифчика и дымить почем зря у себя в кабинете.
Простуды Бельдюга перемогала на ногах: со слезящимися красными глазами над марлевой повязкой притаскивалась на работу и портила всем настроение – хоть бы раз