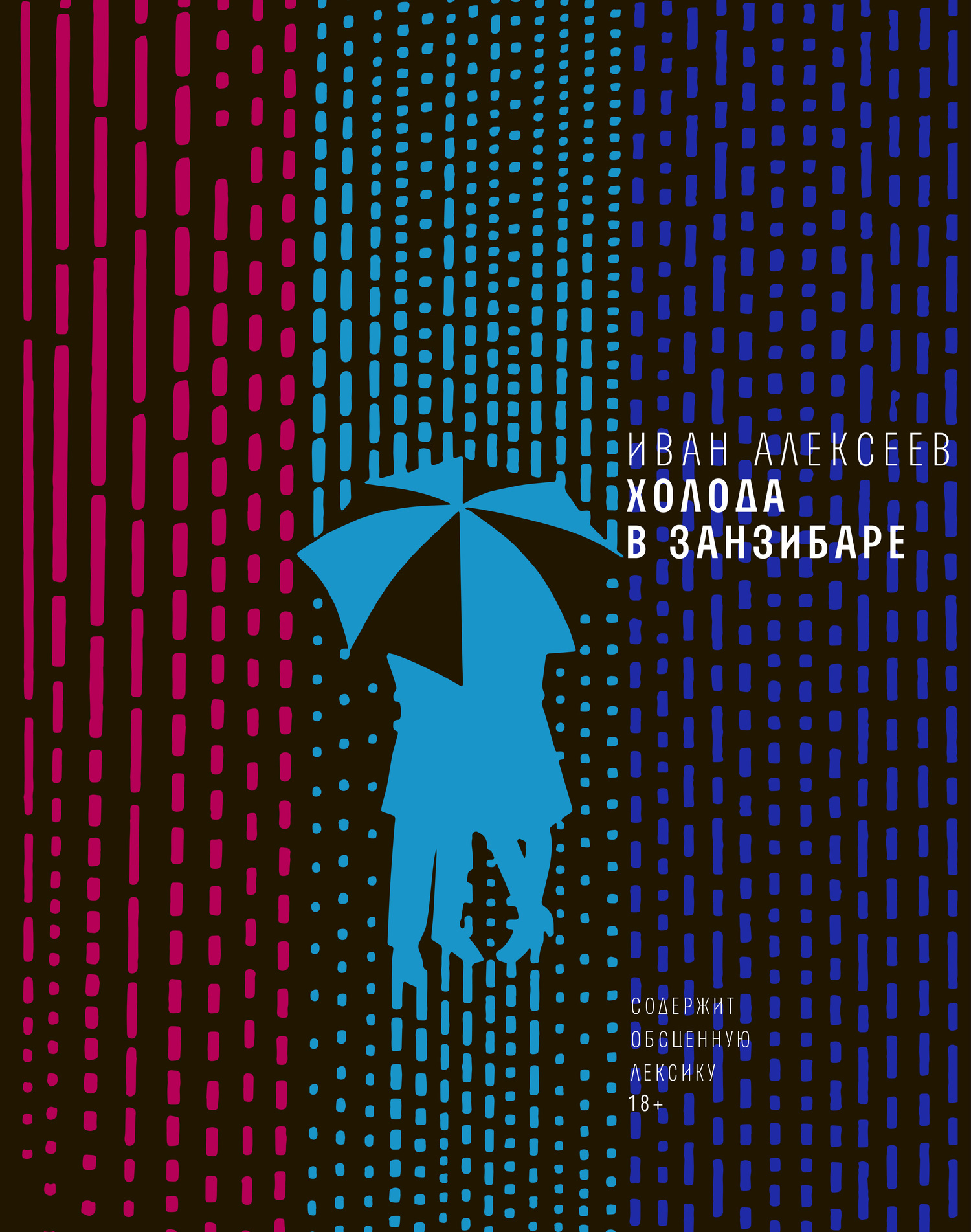взяла больничный, дала людям передохнуть!
Когда Бельдюгу свалил грипп, в отделении был праздник, по случаю которого даже организовали чаепитие с тортом. «Ой, девочки, – мечтательно сказала одна медсестра, – хоть бы померла, что ли!» Но Бельдюга, несмотря на температуру сорок, сделала отчет за год и просила передать его начальству, потому что никогда не задерживала. Таким вот случайным образом у нее дома побывала молоденькая ординаторша и принесла в отделение некоторые подробности из ее быта.
Жила Бельдюга в двухкомнатной квартирке, в чистоте необыкновенной, все уставлено цветами и книгами, мебель старая, но хорошая, может, даже антикварная (ординаторша в этом разбиралась плохо), имеется коллекция гжели, в ванной несколько роскошных халатов, масса дорогой, в основном импортной, косметики и всяких средств для ухода за увядающей кожей, а пол в туалете застелен мягким ковриком. Сначала всем показалось, будто про Бельдюгу что-то поняли, но потом выяснилось, что ценность информации равна нулю.
Конечно, сволочной характер Бельдюги, ее суровость и надменность объясняли тем, что у нее нет мужика. Ординаторша подтвердила: никаких следов – каких-нибудь замоченных носков или тапок большого размера – она не обнаружила.
Весной – уже вскрылась речка Сходня – Бельдюга на работу не пришла. Никто ее не разыскивал: отделение считало, что она отзвонилась начальству, а у начальства вопросов к ней не было. Всполошились через две недели. Пришел молодой человек в штатском и, вежливо опросив сотрудников, опечатал кабинет. Через неделю печать сняли.
Потом те, кто добирался на работу по железной дороге, видели на станции Химки стенд «ИХ РАЗЫСКИВАЕТ МИЛИЦИЯ» – портрет тусклой печати, где она совсем на себя не похожа, и сбоку текст, мол, рост 165–167, предположительно одета в желтый плащ, белый свитер, особых примет нет.
Так и пропала Бельдюга, исчезла, растворилась в быстротекущих буднях, как дым. И вскоре ее кабинет заняла новая, тысяча слов в минуту, полненькая заведующая. Когда помер Потапенко, больные единогласно постановили, что Бельдюга его бы вытащила.
За опечатанной дверью квартиры под капель плохо завернутого на кухне крана засыхали цветы: листья поникали, тускнели, некоторые желтели сразу, всей поверхностью; другие схватывались с краев коричневой каймой, и та, медленно сжимаясь, ползла к середине, пока в черенке не раздавался легкий щелчок – тогда листик, пару раз качнувшись в оцепенелом воздухе, с жестяным бряком ложился на подоконник; стреловидные листья пальмы, растопыренные пятерней, засыхали с кончиков: как будто отрастали и скручивались ногти, а сами пальцы становились короче и короче.
Иногда оживал телефон – от долгих дребезжащих звонков его красный, покрывшийся пылью корпус меленько трясся.
Звонили члены кружка профессора Ямпольской, сыроеды – доктор Купалова обещала провести сравнительный анализ питательной ценности арахиса и кокоса и вот, вдруг, пропустила подряд несколько занятий; конечно, она никогда не была вполне сыроедом (сыроедение с курением несовместимо), но все же производила впечатление человека обязательного.
Звонили члены Клуба любителей бега: собираясь после воскресных пробежек в красном уголке за чаем из самовара, они время от времени удивлялись, куда запропастилась «наша Танечка». Всем клубом они отучали ее от сигарет, она смеялась, цитировала великого Лидьярда, мол, лучше бегать и курить, чем курить и не бегать, но все же как будто собиралась бросить. И вдруг – как сквозь землю провалилась. Чепуха какая-то, право… Звонила бывшая пациентка билетерша Надежда Павловна – докторша часто брала у нее билеты на выставки, концерты, спектакли, – звонила до самого последнего момента: на концерте Спивакова в первом отделении кресло № 18 в седьмом ряду так и осталось незанятым.
Звонили активисты общества «Мемориал». Татьяна Николаевна обратилась туда в надежде разыскать кого-нибудь, кто бы помнил бабушку, от которой остались две дореволюционные фотокарточки (девочка лет четырех в чепце и клетчатом платьице с выглядывающими кружевными панталончиками и девушка с персидскими бровками в высокой меховой шапке, шубе-ротонде, со сложенными в муфту руками) да справка – сиреневая, пожелтелая по краям бумажка, где сообщалось, что «в ответ на Ваше заявление о месте нахождения з/к Купаловой В. С. сообщаем, что таков (ой) в Карлаге НКВД нет и не было», а на другой стороне обратный адрес: Караганда, п/о Долинское, № 246. Активисты недоумевали: Татьяна Николаевна так энергично включилась в работу, и вдруг – ни слуху ни духу в тот самый момент, когда из Ярославля пришло письмо и возможно, возможно…
Со временем телефон в опечатанной квартире стал звонить реже, а потом и вовсе перестал.
И сыроеды, и бегуны, и активисты, случалось, вспоминали с легкой обидой стройную, явно моложе своих лет выглядевшую женщину: кажется, она работала врачом, да, да, у нее была замечательная улыбка и очень белые ровные зубы, хотя она много курила, и вдруг – на тебе… Не замечая, они вспоминали о ней в прошедшем времени.
Геннадий Петрович, инженер седьмого СМУ, телефонными звонками не удовлетворился: несколько раз приходил к ее дому, но так и не поднялся на этаж. Они часто отрывались от остальных, и Геннадий Петрович, ритмично рассекая воздух ладонями, на бегу отпускал комплименты Таниной молодости и оптимизму, а она, чтобы не сбить дыхания, односложно отвечала: «Да?» – не без кокетства. Геннадий Петрович симпатизировал Тане и хотел с ней сойтись поближе, но всегда ощущал красную линию, через которую переступать возбранялось.
У Тани было светлое детство – с белыми передничками и кружевными воротничками, с общественной нагрузкой и отличной учебой, с музицированием на фортепьяно в тесноте заставленной комнаты и с частными уроками французского; в одно мгновение оно оказалось залитым приторной патокой кошмара: открывается дверь, и в комнату входит отец в плаще с мокрыми потемневшими плечами (видно, на улице начался дождь) и видит ее, четырнадцатилетнюю, танцующую голой перед зеркалом в сопровождении пластинки (когда пластинка шипит, кажется, что идет дождь): танго, Лолита Торрес.
Отец слег уже в новой – на окраине – отдельной квартире, так что основы ухода за тяжелым больным студентка второго курса Таня Купалова получила дома: уколы, клизмы, судна, «теперь, папочка, накроем голову и проветрим», первая часть Лунной сонаты – отец требовал ее почти каждый день, и Таня исполняла как могла.
Старый фтизиатр, еще до войны – студентом – сделавший блестящий доклад по искусственному пневмотораксу, он перед смертью часто пускался в рассуждения о своей профессии: то ему было жаль, что чахотка исчезла из современной литературы, нынче в книгах все больше умирали от инфаркта или рака, как у него, отчего сюжеты сделались бедными и скучными; в другой раз обронит загадочно, что, мол, чахотка не болезнь, а избранничество; иногда просил почитать вслух старые, еще романтической, до антибиотиков, поры книги по специальности: «…бледный, почти алебастровый цвет лица, прозрачный колорит кожи,