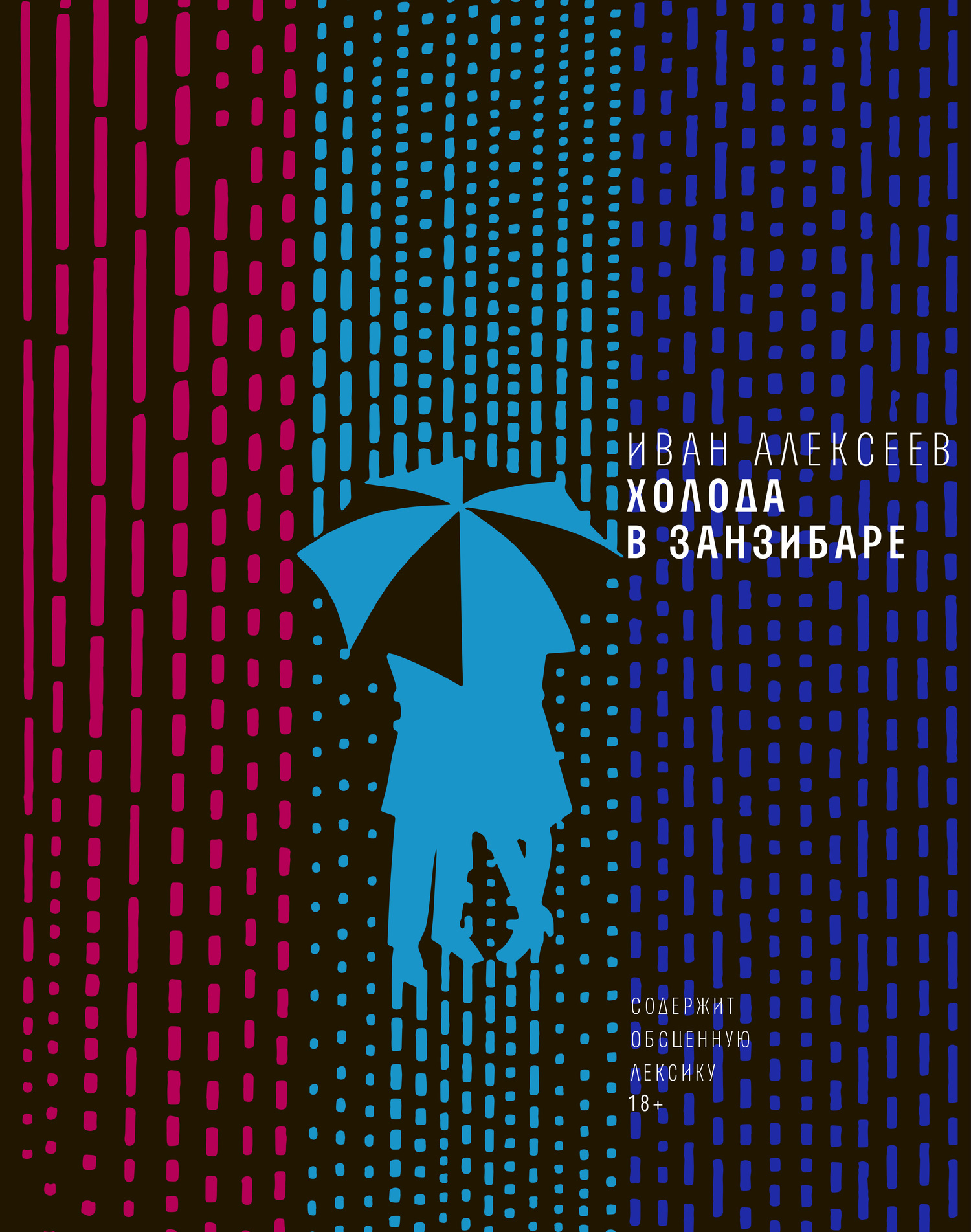было в нем через край – и любопытства: сунул он фраерку ножик в живот и с удивлением узнал, что преграда, казавшаяся непреодолимой, – выдумка, брехня, что вовсе ее нет: легкий толчок, короткий треск одежды, и дальше ножик сам мягко тянет руку в скользкую тьму, пока не упрется ограничителем – и досадно тогда, что лезвие такое короткое, что все так быстро кончилось.
За это знание Звон отмотал восемь лет и, харкая кровью, страдая от непонятной жажды, вышел в душное московское лето. Какое, с понтом, было время! Улицы, скверы, площади буйно кипели бесконечной, безумной каруселью ног – загорелых, гладких и белых, в пупырышках от ветра, худых, длинных, напряженных, как струночки, и полных, мяконьких, с подрагивающим жирком, а чуть выше, под мини-юбками, весело, будто мячики, подпрыгивали упругие ягодицы, а по танцплощадкам победно шествовала «Шизгара».
К освобождению родители прикупили Звону новые клеши, башмаки на платформе с подпалами, батник навыпуск с медными лейбловыми пуговками – да не в кайф: не удалось ему покуролесить по танцплощадкам, покурить всласть «Союз Аполлон», погонять на мотоцикле, побаловаться с девчонками, для радости которых в крайнюю плоть члена, еще в зоне, вогнал два плексигласовых шарика.
Он был худ, глаза лихорадочно блестели, тонкие длинные пальцы все время двигались – успокаивались только на грифе гитары: одаренный безупречной музыкальной памятью, на волю Звон вынес массу тоскливых песен… Ни пальцы, ни песни не достались подружкам, блейзер на одной пуговице, о котором мечтал, уплыл к кому-то другому, так и не насладился он пугающей силой знания, что приобрел восемь лет назад: под грохот «Шизгары» рухнул без сознания среди танцующих жарких тел и очнулся в больнице.
Слово «туберкулез» походило на сосредоточенную крысиную морду, а слово «диабет» почему-то напомнило алфавит и запах новенького школьного ранца.
От вклеенных страниц и бланков анализов история болезни распухла, края ее обтрепались, уголки закрутились, а палочки из Звоновых каверн все сыпались и сыпались, как шелуха подсолнуха на асфальт воскресного базара. Иногда на Звона нападала тоска, тогда он бузил, отказывался от лекарств, задирал соседей по палате, рвал на себе рубаху и пил водку; после, осунувшийся, с растресканными губами, медленно выкарабкивался – до новой тоски.
Через полгода больничного заточения почувствовал: все, кранты. Если раньше жизнь представлялась тем, что будет, то теперь она странным образом повернулась и стала тем, чем была. «Роберт Кох, чтоб ты сдох!» – шутили больные, но Звон не улыбался; перебирая струны своими красивыми пальцами, он пел про волю и скорую смерть, вышибая слезу из прошедших огонь и воды сопалатников и притихших беленьких медсестричек. Часто его просили исполнить трогательный романс, где «слякоть бульварная» и в конце «два мужика чей-то гробик несут»; Звон не отказывал: это было теперь про него. Смерть стояла так близко, что, отставив свою желтую худую руку, легко представлял, что это уже рука трупа и ее пальцы переплетут с пальцами другой руки и сложат на неподвижной груди. И если прежде знание несущественности перегородки между смертью и жизнью наполняло силой, то теперь – растерянностью. Звон притих. От холодных пальцев Татьяны Николаевны, от прикосновений никелированного кружка фонендоскопа по телу пробегали волны мурашек, хотелось так стоять и дышать долго-долго, и чтобы – бесконечно – кружок, холодный, блестящий, взмывал и опускался, касаясь кожи всякий раз в неожиданном месте.
Ничего, ничего не осталось у Звона, кроме полной физической ничтожности, граничившей уже с несуществованием, заметной даже стороннему, незнакомому с медициной человеку – мерцало что-то в глазах; но эта ничтожность все же была достоинством, последним козырем, последней силой его заканчивающейся жизни – он знал, что вызывает жалость, и задумчиво перекатывал под одеялом так и не пригодившиеся шарики.
Дежурила Татьяна Николаевна часто. Однажды Звон набрался куражу, постучался. «Миша?» От чая с диабетической конфеткой, от размоченных сухариков Звону стало хорошо и по-домашнему уютно: благодарный, он старался дышать потише, в сторону – помнил про палочки.
Теперь, если на дежурстве Татьяна Николаевна была не занята, просиживал у нее вечера напролет, а она слушала, не перебивая, его истории (как Звон не любил торопливую дробь сестринских каблуков по коридору и телефонные звонки!): про зону, про детство, про мать с отцом, про компанию, в которой когда-то верховодил; чувствуя, что Татьяна Николаевна откликается – жалеет, – приносил гитару и пел про «слякоть бульварную», где «острыми иглами нам в душу метет», одержимый безумной надеждой хоть под занавес земного бытия вырвать короткую вспышку счастья. Как-то признался – это не было правдой, но в тот же момент ею стало, – что никогда не знал женщины. Татьяна Николаевна потрепала его редкие паклевидные волосы, сквозь которые просвечивала кожа, и, улыбнувшись, сказала: «Вот вы, мужики, все думаете, что любовь – это постель. А это, Мишка, совсем другое». «Что?» – спросил он. «А вот просто – я прихожу домой, делаю свои дела и думаю: как-то там мой Мишка?»
К весне Звон «стабилизировался»: лекарства помогли или домашние книжки и пирожки Татьяны Николаевны – не узнать; когда в цветущих вокруг больницы сиренях закричали соловьи и стало невмоготу, Звон пошел ва-банк: пригласил в кино. «А режим?» Пересохшим ртом: «Как-нибудь».
От лета в памяти осталась темнота, мерцающая темнота кинозала, пронизанная током близости Татьяны Николаевны, прерванная почти на месяц ожиданием ее возвращения из отпуска, когда он «был умницей» – не бузил, не пил водки и отчаянно подставлял зад под уколы – а всего-то и были в кино раза два-три. Как-то, лето уже кончалось, Татьяна Николаевна сказала: «Я познакомлю тебя, Мишка, с очень интересным человеком», – и привезла к бородатому художнику, который писал какие-то синие картины, и Звон подумал, что и сам бы так смог, если б захотел; кто ей этот художник и кто ему она, понял сразу – и сник.
Через две недели ему стало хуже: поднялась температура, зашкалил сахар, хлынула кровь, но – выкарабкался Звон, ожил! Черт его знает почему. И вновь ожила под его длинными пальцами тоскливая гитара: «Девушка бледная в туфельках беленьких, словно шальная, по снегу идет». И снова Звон стучался в дежурку, снова пил чай с диабетической конфеткой и деликатно выдыхал в сторону. Был ли он так дьявольски хитер? Или же, уставший от болезни, загадал на удачу, на счастье – а вдруг? – заведомо несбыточное? В книге, что принесла Татьяна Николаевна, наткнулся Звон на фразу, перечитал ее несколько раз, а потом жирно подчеркнул: «Если она полюбит меня, я останусь жить». Расчет это был или загад на счастье – мы не знаем, – но с каждым днем верил Звон все сильней: если