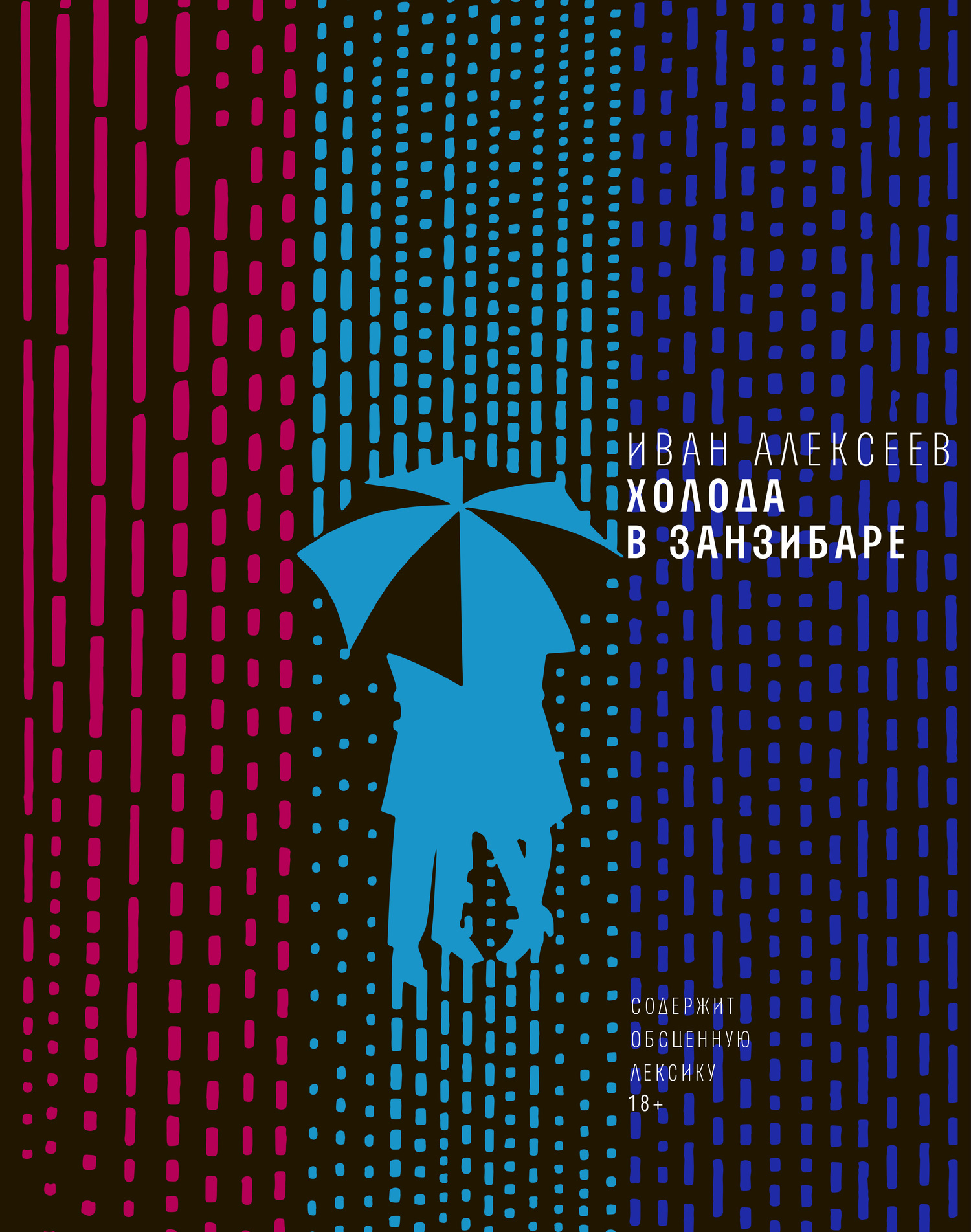это случится, он будет жить. Да.
Теперь Звон жил ожиданием – несуетным, терпеливым, – словно что-то главное в своей жизни успел сделать. Тот день он узнал сразу – по выпавшему молодому снегу. Стоял у окна и вдруг сказал себе: вот.
Но – не случилось. Не сбылся загад – не осталось у Звона мужской силы.
Он плакал всю ночь, безутешный и жалкий, как все дети, шмыгал носом и, впитывая распухшими от слез глазами грудь, складку поперек живота, недоступный шелковистый треугольничек, думал, что в эту белую кожу, в кровавый сумрак внутренностей нож бы вошел мягко, тянуще, и лезвие опять показалось бы слишком коротким.
Спустя несколько дней, совсем ни к чему, вспомнилось Звону сказанное тем художником: «Прошлому повезло, оно осуществилось. Будущее всегда несчастно – неизвестно, будет оно или нет».
Когда он умирал, Татьяна Николаевна сидела рядом и гладила по голове. И он спросил тогда про своего соперника, как, мол, он там? «Он уехал, Мишенька», – ответила она. «Куда?» – «Далеко, в Америку». И Мишка умер с улыбкой облегчения.
Хорошо, что Мишка в могиле! Не дай бог увидел бы расклеенный в пупырышках печатного станка портрет, пришел бы в бешенство, да за нож… Спи спокойно, Мишка, Мишка Звон!
Сначала сообщения промелькнули в газетах, потом сюжет об открытии выставки дало телевидение. Он почти не изменился, но непривычно много улыбался; борода у него была аккуратно подстрижена, лоб из-за лысины сделался выше, значительней; смущенно кашлянув в кулак, отвернувшись от телекамеры, сказал, что пришло наконец-то время справедливости.
То, что он здесь, рядом, в каком-нибудь получасе на такси, казалось столь же невероятным, как если бы отец вдруг поднялся из могилы и как ни в чем не бывало произнес свою загадочную фразу: «Чахотка – не болезнь, чахотка – избранничество», которую за всю свою профессиональную жизнь Татьяне Николаевне так и не удалось понять. Умирающий человек ляпнул в мутном сознании чушь, а она мучилась – бывает так?
У него мог сохраниться ее телефон, он мог позвонить или, поддавшись ностальгической прихоти, разыскать ее и… и тогда все: бег трусцой, независимая походка с напружиненной спиной, чистота в отделении, арахис и кокос, деятельность в «Мемориале» – все, что отвоевала у жизни, в чем чувствовала себя уверенной, – теряло смысл.
Она уехала последней электричкой. На окраине Тулы, в деревянном, пропахшем печным угаром доме с тряпичными ковриками на покосившихся полах, жила двоюродная по матери тетка Галя, сухонькая вертлявая старушка в опрятных платочках; Татьяна Николаевна, уютно поежась, представила, что уже завтра она проснется на пружинной коечке и увидит в окошко землю, по которой ходят куры. И это будет хорошо.
Электричка быстро отряхнула городские огни, разогналась; к окнам мертво прилипла ночь, и в ней пустынно отражались ряды дощатых скамеек, казалось, поезд застыл – в грохоте и лязге.
Все правильно. И глупо приходить на свидание под те же часы спустя столько лет.
Они вошли в вагон из провальной тишины остановки, из неведомой жизни, начинавшейся где-то в темноте, за конусом станционного фонаря, расшвырнув двери в стороны, – пятеро, один за другим, в распахнутых куртках, с волосами по плечи, полными острой ночной свежести.
Татьяна Николаевна проводила глазами их отражения в стеклах окон. Он сказал: время справедливости.
Они пели; из грохота и лязга то всплывал на поверхность, то вновь скрывался – голос. Тонкий, мальчишеский, знакомый; захотелось обернуться, посмотреть на того, кто пел, на его пальцы, но показалось неудобным. Сквозь грохот и лязг она отчетливо разбирала слова:
…словно шальная, по грязи идет.
Белые туфельки были ей куплены
По его прихоти богатым купцом
И в тот же вечер, в тот радостный вечер,
Та пара кружила по залу кольцом.
Ты отдалась ему по-детски доверчиво,
А он вовек никого не любил.
Та, та, та, та-та, та, та, та, та-та,
А он в тот же вечер тебя позабыл.
На улице дождик и слякоть бульварная,
Два мужика чей-то гробик несут…
Голос снова нырнул в лязг и грохот, и она так напряженно вслушивалась, чтоб уловить пропавшие слова, что, когда на ее плечо легла рука, не удивилась, а легонько повела им, освобождаясь.
Но – обернулась. Пятеро, они стояли полукругом, с неподвижными, как у сфинксов, лицами и смотрели. Тот, чья рука держала ее плечо, показал головой на того, что был с гитарой, и сказал:
– Ему пришла пора стать мужчиной. Встань.
Нож.
Он промял плащ и упирался в кожу почти не больно, словно вежливо спрашивал разрешения войти внутрь; Татьяна Николаевна медленно, как змея под дудочку факира, поднялась, и первый, присев, запустил руки к ней под юбку, к поясу, зацепился пальцами и резко рванул вниз; она всегда придавала значение белью – оно должно быть чистым и красивым, – и, чуть нагнувшись вперед, убедилась: белье безупречно. И облегченно выдохнула.
Не закричала, когда опрокинулся вагон и что-то тупое, обдирая слизистую, вдвинулось в нее, а только тихо подумала, что, в общем-то, хорошо, что у нее нет детей. Горячо толкнулось семя, мягко скользнул между ребрами нож, и радужка широко открытых глаз сделалась тусклой и бессмысленной.
Сволочи! Что же вы не могли взять фотографию получше, из альбома, где она похожа на себя, где она красивая! Нет, взяли, сволочи, из паспорта, когда она снялась на бегу, второпях, испуганно выставившись в объектив, и развесили по городам и весям одной шестой части суши, на станциях и во дворах ментовок:
РАЗЫСКИВАЕТСЯ…
Сволочи!
Сын прилетел на девятый день – он был с друзьями в горах и включил телефон, когда Лизу уже хоронили. В VIP-зале было много народу, и Алексей Борисович Яловой не сразу понял, что высокий парень с короткой стрижкой, резко поднявшийся навстречу с кожаного дивана, и есть его Коля. Взяв друг друга за плечи, они соприкоснулись щеками, замерли на мгновенье и тотчас разъединились. Сын возмужал – плечи стали шире, щеки, покрытые двухдневной щетиной, утратили юношескую припухлость и втянулись, над бровью – горизонтальная стрелка шрама. В выражении лица появилось что-то незнакомое, чужое.
Из аэропорта сразу поехали на кладбище.
Алексей Борисович сам управлял машиной – джип охраны шел позади. Ехали медленно, без сирен. Коля смотрел в окно, на вопросы отвечал односложно, не поворачивая головы. Слова он произносил без акцента, но последний слог растягивал и повышал на тон. Все у него было нормально, все как всегда, взял курс античной философии, девушка есть, зовут Сара, но он