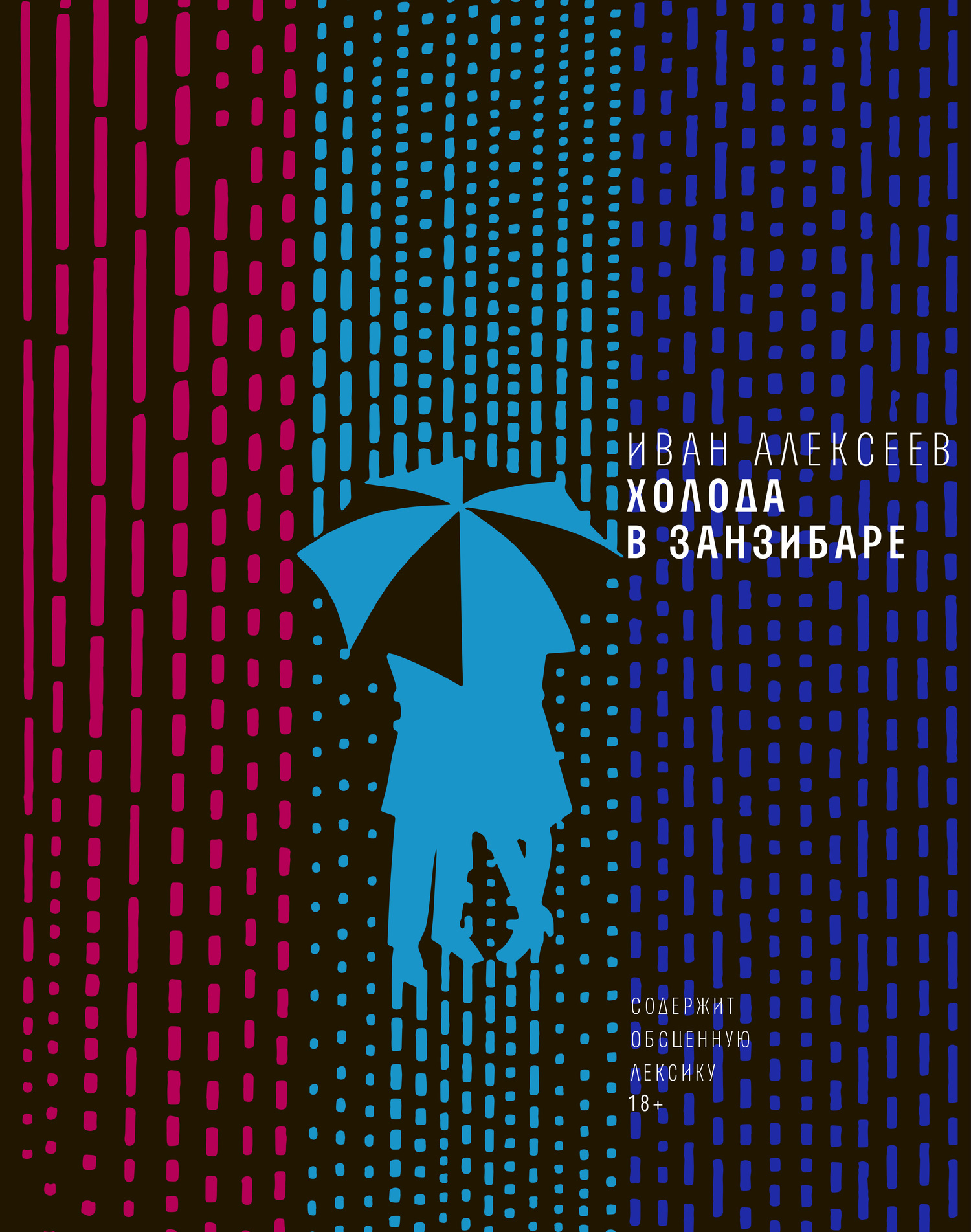щеки, покрытые ярким румянцем, расширенные зрачки и своеобразную томную поволоку склер мы всегда расцениваем как выражение экссудативной фазы…» – и на глаза отца наворачивались слезы слабости и умиления.
Умер, как говорили в старину, на руках у дочери и с улыбкой облегчения.
После его смерти у матери открылась мокнущая экзема, и теперь каждый день к определенному сроку Таня должна была быть дома, чтобы сделать ей ванночки. Когда появлялся какой-нибудь застенчивый юноша – у Тани всегда были аккуратные конспекты, – мать заставляла его, как медика, внимательно осмотреть ее руки, и во второй раз юноша если и приходил, то лишь затем, чтобы забрать случайно забытые книгу или перчатки.
Мать сделалась чудная: подробно инструктировала Таню, как ее хоронить, во что одевать, отложила на книжку деньги, закупила кое-что из похоронного гардероба. Постепенно Таня к разговорам о смерти привыкла и спокойно отвечала на просьбу матери похоронить ее на крутом берегу реки: «Хорошо, мама». – «И чтобы крест был деревянный, без всякой надписи». И Таня снова отвечала согласием. С каждым годом процедура похорон усложнялась: когда Таня кончила институт и уже лечила чахоточных, мать требовала сжечь ее, а пепел развеять с самолета, на что дочь устало вскидывала брови и спрашивала, кто же ее пустит с прахом на борт, да еще позволит развеивать? «Ну, придумаешь что-нибудь, – обижалась, – дашь, наконец, пилоту взятку!»
Умерла мать внезапно, от сердечного приступа, и соседка по лестничной клетке так сокрушалась, что пропала почти полная пенсия, сто восемь рублей, что пришлось накапать ей корвалола.
Похоронила рядом с отцом, не стала ни сжигать, ни развеивать.
Каждую весну на Родительскую Татьяна Николаевна приезжала на Долгопрудненское кладбище, уч. 206, чтобы выгрести черную слежавшуюся листву и смыть зимнюю накипь с прутьев ограды и двух красных гранитных камней, чуть наклоненных – как бы, по замыслу архитектора, прильнувших друг к другу. Камень побольше – отец. Камень поменьше – мать. Могила родителей осталась неубранной.
Пока таможенники рылись в его вещах, он, заложив руки за спину, невозмутимо прогуливался перед стеклянной стеной, за которой в толпе мелькали прежде как будто знакомые лица, и, заметив высокого развязного парня с телекамерой на плече, довольно ухмыльнулся: нет-нет, никакого мстительного чувства, просто, подумал он, пришло время справедливости. В сущности, та давняя выставка оказалась непревзойденной авангардистской акцией, в которой искусство сошло с пьедестала и обнялось с жизнью: само став окружающей средой, оно и среду подняло до себя. Нет, этого уже не повторить: ни неба, полого набиравшего высоту из-за прямоугольных домов, сбившихся в стадо на краю пустыря, ни прозрачного сентябрьского ветерка, шевелившего бурьян и холсты на шатких треногах, ни масляного сверка стального ножа бульдозера, нетерпеливо поплевывавшего из трубы солярной гарью… Всю последующую жизнь он пытался лишь приблизиться к совершенству того авангардистского действа и, как утверждали критики, кое-чего достиг…
Это был немолодой круглолицый мужчина, бородатый, с вялым, замедленным взглядом из-под складок нависших домиком век, одетый в добротный, но неудобный шерстяной костюм – время от времени, будто стараясь от чего-то освободиться, он машинально приподнимал плечи.
Когда-то, давным-давно, он носил свитер с растянутым воротом, заматывал шею шарфом в полтора оборота, жил случайными заработками и знать не знал, что направление, в котором он работал, будет называться трансавангардизмом.
А еще – однажды – была весна, и чистое небо отражалось на мокром асфальте, и куча денег тяготила карман (получил за панно на фасаде сталепрокатного цеха – парящие в ультрамарине ангелы в шахтерских касках), и для счастья недоставало женщины.
С женщинами у него всегда были проблемы – может, оттого, что никогда толком не понимал, что же на самом деле ему от них нужно? Та, которую ждал, опаздывала. Нелепый, с букетом убогих гвоздик, стоял он у входа в метро, куда навстречу теплому, с запахом резины воздуху втягивался с площади пестрый поток, и неизвестно, как бы двинулась его жизнь дальше, если бы не этот вопрос из-за спины: «Простите, у вас не будет спичек?» Свободные, взъерошенные сквозняком волосы, длинное распахнутое пальто, круглые, в капроне, коленки, коричневые сапоги-чулки с тупыми мысками – и белая сигаретка нетерпеливо перекатывалась между двух пальцев.
Спички, слава богу, нашлись; покраснев, неловким движением сунул цветы: «Вам». Не взяла. В одну секунду он почувствовал ее всю, разом. «Мне плохо», – сказал он.
Таня стала как свитер, как шарф – такой же необходимой вещью его жизни. Она приходила в подвал, молча что-то прибирала, мыла – молчать с ней было легко, естественно, – а когда ему подступало, становилась любовницей, то пылкой, то целомудренной – как хотелось ему. В ее преданности не было унижения, скорее – какая-то недоступная свобода; ночевать оставалась редко – Таня жила где-то на окраине и ухаживала за больной матерью.
Иногда они выбирались в кафе, где молча сидели, растягивая бутылку сухого, и он, переворачивая в блокноте листок за листком, несколькими движениями карандаша набрасывал ее летучие портретики…
Кажется, Таня имела какое-то отношение к медицине…
А вскоре грянула выставка, он запил и сорвался на родину, в алтайскую степь, в Волчиху – сотрясаемый подземными атомными взрывами приземистый городок с разбросанными, как зубы во рту у старухи, редкими домами. Таня разыскала его, увезла и потом бережно выводила из депрессии – таскала в киношку, читала вслух Диккенса, спасая, тащила за рукав по ночной улице и заискивающе улыбалась милиционерам, когда он грозил кулаком кремлевским звездам и клялся, что у него не дрогнет рука пустить этим пидорам по пуле в лоб; он ничего тогда не писал, смотрел на кисти с отвращением, мучил Таню припадками агрессивной близости, а после плакал, просил прощения, и она прощала, прощала… Через несколько лет, когда петля на его шее совсем затянулась, она привела свою подругу-еврейку Риту, с которой он вскоре и расписался, – в загсе Таня была свидетелем. Уже в аэропорту, когда прощались, он сказал, что когда-нибудь настанет время справедливости; она плакала, как всегда, молча, кивала: да, да, да!
В Москве провел два дня – дал несколько интервью, сказал о наступившем времени справедливости, переночевал в гостинице и улетел.
Уже за стеклянной стеной, когда самолет вошел в волокнистую муть облаков и земля перестала быть видной, он подумал, что писать ему давно уже хочется что-нибудь уютное, вроде пейзажей Левитана, что Россия для него – это Таня и что надо было попытаться ее разыскать… Впрочем, он не в том возрасте, чтобы все начинать сначала, нет, нет, нет…
Хорошо, что Мишка в могиле! Для нас с вами – общества – хорошо! Спи спокойно, Мишка, Мишка Звон!
Всего