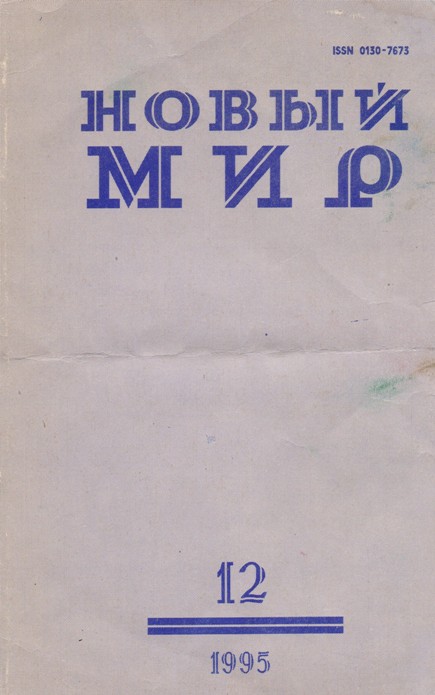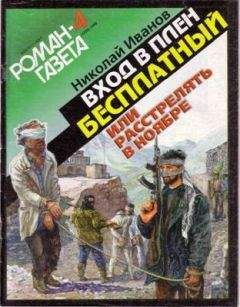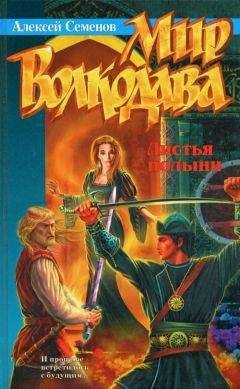виски уксусом.
— А как же караси?
— Отменяются!
— Нет. Все же есть. Есть.
— Нету! Не-ет, говорю вам, нет! Нет никаких троллейбусов, дилижансов без тягловой силы, конок без лошадей! Ну, трамваи — это другое дело…
— Там ток в проводах…
— Чего??
— Ну… на токе в проводах… Не знаю… в общем, — сопротивляюсь я, чувствуя, что мне становится муторно.
— Ну вот видите? Вы сами ничего не знаете. Идите домой и на ночь выпейте мою настойку горицвета.
В нос ударило псиной. Я разомкнул наконец тяжелые веки.
— Это не ваша настойка. Вы не Бехтерев.
— О-ох. — Профессор устало махнул рукой, хлопнув ладонью по подлокотнику, однако глаза его почему-то забегали.
— Это вас нету. И самозванец — вы, — говорю я суконным голосом, еле ворочая языком, и трясу головой, стряхивая кошмар.
— Что вы делаете? — закричал он. — Перестаньте! Остановитесь! Слышите?! Вы слышите меня?! — кричал профессор, и голос его становился все отчаянней. — Хорошо, я буду с вами начистоту. У вас нет друзей! Да очнитесь же! У вас никого нету! Вы! Сумасшедший! Кроме меня! Неужели вы не понимаете, что опять придете ко мне? — (Смешок.) — И вам будет уже сложнее начать. Я вам приказываю остановиться!
Но я продолжаю мотать головой, растирать лицо, напрягая шею, стиснув зубы, — пытаюсь уйти от него.
— Перестаньте! Перестаньте! — Голос его невыносимо высок. — Перестаньте! Ну пожалуйста, перестаньте… — (Почему он так сильно просит?) — …перестаньте, перестанд, пересту… перестутуте… ту-ту… У-у-у-у-унн…
Мой сосед отсел от меня. В троллейбусе было еще много свободных мест. Я перестал мотать головой и огляделся, прислушиваясь: в динамике над дверьми ревела вьюга, а в ушах как будто еще остались крохи пачкотни твердыми маленькими буковками: перь, ту, у-у, те, т.
Я уже пропитался троллейбусом, он течет в моих жилах, и мне стоило неимоверного труда убежать от него прочь, когда до меня донесся запах подгоревшей гречневой каши.
Вижу пока только жилые дома. От каждого окна здесь веет своей памятью, своим внутренним миром. Окна зеленые, малиновые, желтые. На первом этаже, в желтом окне, мужчина ест жареную картошку. Женщина баюкает на руках ребенка, на полу раскиданы игрушки, лежит плюшевый медвежонок. В этом доме свой запах, как и у каждой семьи, свой мир, и я тревожно хочу присоединения к нему и потому бегу, бегу от него дальше, без оглядки.
Но все попусту: я уже чувствую, что приходит она — моя болезнь, мой припадок. Вот-вот, еще немного, стоит только дотронуться до души — и наступит. Помню, в детстве у нас во дворе, среди лопухов и волчьих ягод, рос какой-то удивительный московский сорняк, покрытый крошечными огуречиками, и стоило только, когда они созревали, дотронуться до одного из них хоть травинкой, он сейчас же взрывался: вылетали семена, а кожица огуречика, как живая, скручивалась в спиральки, и, мертвея, они замирали. Вот так же и я сейчас боялся смотреть по сторонам, боялся прислушиваться, чтобы не прикоснулось это внешнее к моему внутреннему, вечно томящемуся, взрывающемуся плоду. Но чувствую: приближается, и умоляю себя остановиться, и не знаю — как. Как?! И тут мой дух устремляется наружу. Вверх! Вверх вспархивает дух мой и уносится под крыши домов и уже заглядывает в окна. И проникаюсь я чужой тоской и обрывками чужих мыслей, становятся моими и фотографии на стене и такими знакомыми чужие руки и волосы. И плачу я вместе с чужим, просолив горло ошибками чужого, чужой несостоявшейся жизнью или состоявшейся. Изнемогаю, ослабеваю, уже истерзав всю грудь чужими снами, и горю, мучительно, как в печке, ощущая, что в жилы мои вливается иная кровь, иное детство, иные мучения, иные мать, отец, двор, пионерские лагеря — все иное; иное ощущение женщины, вкуса вина, опьянения, иной запах собственного пота, иной оргазм, иная любовь, боль иная… Нет мочи терпеть! Перерождаюсь!.. перерождаюсь! И противно моему телу от нового духа: чувствуются чужие резкие силы, чужое тепло, запах — как будто кто-то только что снял натруженную обувь и мне приходится ее, еще теплую, надевать. Приходя в себя, думаю: лишь бы не окунуться в женщину в следующий раз, а то я просто начну волком выть от неизбывной тоски чьего-то несостоявшегося материнства. Иду настороже, на людей не смотрю…
Больница. Боль-ница! Что ты? Что с тобой? Больница же! Ну и что? Как ну и что? Ничего. Ничего, я успею, я успею вернуться в себя. Вот сейчас. Только закурю.
Я добрался до кирпичного забора. Вхожу в ворота. Никто меня не останавливает. Поднимаюсь на третий этаж. Стучу в дверь. Из окошка выглядывает сиреневая накрученная голова. Медсестра говорит, чтобы я уходил: время посещения закончилось полчаса назад.
— Как?? — кричу я. — Мне — все сначала?! Но ведь я так долго добирался! Я промок, как собака, насквозь! А теперь — обратно? А потом — все сначала? Впустите!
— Мое какое дело?
Я смотрю на неправдоподобные мясб медсестры. Она преграждает мне путь. Неужели можно так располнеть от жидкой овсянки с яйцом, от воняющей манки, перемешанной с творогом? И вдруг я замечаю понурую фигуру Сашки. Он несет из столовой миску, и лицо его искажено отвращением.
— Сашка!! — кричу я ему через толщу жира. — Сашка! Я здесь! Куда смотришь!
Сашка удивленно оглядывается.
— Здесь я! За медсестрой!
— Леха! — восклицает он и улыбается во все лицо. Он ставит свою миску куда-то и подбегает к окну: — Пустите его! Он ко мне!
— Почему так поздно? В самый ужин. Больных нужно кормить! — упирается медсестра.
— Да бог с ним, с ужином, — говорит Сашка.
Сестра, как мне кажется, с какой-то плохо скрываемой завистью смотрит на отставленную миску и понемногу начинает смягчаться. Наконец дверь открылась, и мы обнимаемся, хлопаем друг друга по плечу — кто сильнее — и отходим в сторону.
Ко мне бодро подскакивает мужичонка, в такой же полинялой голубой пижаме, что и на Сашке. Сашка смотрит на него снисходительно, но в то же время, замечаю, держится с ним осторожно, я тоже поглядываю недоверчиво. Глупо спрашивать у этого человека, отчего он здесь. По его испитому лицу с собачьими страдальческими глазами можно определить, что попал он сюда с белой горячкой, — впрочем, это самое незначительное — от чего здесь лечат. Он что-то говорит мне о выпивке, но я мало понимаю: склада в его речи нету. Издерганный, болтливый, он мне чем-то неприятен, но в то же время вызывает сочувствие. Он заговаривает меня, и вскоре как-то само собой складывается впечатление, что я пришел к нему. И все-таки Сашка отрывает его от меня и объясняет, что этого человека просто никто не навещает. Мы удаляемся в комнату