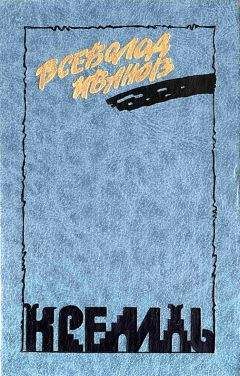Мы прошли уже несколько раз. Я посмотрел на него с удивлением, Мы присели на траву. Доктор достал из кармана яблоко и угостил меня.
— Вам что же, жизнь надоела, Матвей Иваныч?
— Вряд ли она мне когда-нибудь надоест. Для этого она слишком коротка.
— Но вы желаете говорить с братьями.
— Я желаю их разоблачить. Вы обратили внимание, как они держали себя, когда мы подходили к стадиону? Они держались за ноги, и создалось у многих такое впечатление, что доктор испугался их и дал стрекача.
— Совершенно ложное впечатление.
— Нет, не ложное. У меня прекрасный ход. Я не хочу, чтоб вы попа дали в свалку. Это мой последний поход. Я связываю вам руки, и мы приходим и говорим: да мы вот даже связаны, вы одного можете подколоть, но двух вряд ли, мы наперед знаем, что вы не рискнете. Все дело в том, Егор Егорыч, хватит ли у вас смелости.
— Странно было б рассуждать. Конечно, хватит, и согласитесь сами: если они вас будут колоть, я что же, танцевать должен?
— Вы можете выбежать и крикнуть на помощь. Это единственный способ, по своей безрассудности, заставить их замолчать.
Мы препирались долго. Я возражал ему, но, видимо, слабо. Правда, мне и самому нравилась его мысль и, кроме того, приятно было осознавать то, что он не употребляет проклятых иксов и рассуждает нормально. Одним словом, мы пришли в нашу комнату, и он крепким ремешком, который был у меня в запасе, — я надевал иногда рубашку, — связал мне руки сзади. Он поправил их. Я не мог не рассмеяться. Он тоже улыбнулся. И мы направились к братьям.
— Но вы даете слово, — что это последний наш поход?
— Даю, — сказал доктор торжественно и пожал мои связанные руки.
— Завтра же мы выезжаем в Негорелое.
— Позвольте, но уже 2 недели.
— И прекрасно, мир на 2 недели ближе к катастрофе, любопытно посмотреть…
В комнате братьев Валерьяна и Осипа я был впервые. Людмила сидела на койке и курила. Валерьян был в одной стороне комнаты, Осип в другой, сестра посредине, так они во все время разговора и крутились, как маятники, показывая часы.
Мое появление со связанными руками действительно несколько ошеломило их, даже Людмила посмотрела на меня с любопытством, чем наделила меня частицей благ при будущем распределении любви. В комнате стояли три велосипеда, валялись велочасти и формы для тортов, печений, банки с печеньями, конфеты. Людмила вынимала из кармана овес и сыпала на руку, пробовала на зуб.
— Так брать, что ли? — спросила она нерешительно.
— Брать! — воскликнул брат.
Мы услышали обрывок разговора, из которого можно было понять, что вопрос шел о покупке, но сметенное время или слишком большая партия — все это заставило Людмилу прийти в комнату братьев, вообще же она смотрела на людей в том смысле, как ловко их можно было обдирать, но уважать она могла только людей, которые могли любить, и, кто ее знает, — не пожертвовала бы она все человеку, который может любить. Одно могло показаться странным — и я поэтому не особенно верил в докторскую любовь, что и Людмила не особенно верила этой любви, я не понимал этого, она-то любовь могла понять; братьев же она не уважала и презирала за полную их неспособность любить как физически, так и морально. Братья и ей, как и всем остальным, внушали страх, но боюсь, что только до сегодняшнего дня, и так как она понимала, что доктор не может не явиться, а произойдет нечто странное, то она смотрела с любопытством. Мне думается, что она изучала доктора как раз в смысле любви, и когда он вошел, она даже начала прихорашиваться.
— Я надеялся видеть здесь Сусанну Львовну, — начал доктор.
— А она вас ждала, но не дождалась и пошла выпить с Ларвиным и Населем.
— Она меня ждала?
— Как же, вы же непременно должны были нас посетить.
— То есть потому что посещал других.
— Она высказала такое предположение, но так как ее нет, то мы можем с вами пройти или к ней, или выматывайтесь отсюда.
— Мы вам мешаем?
— А как вы думаете, легко войти в бесклассовое общество? Это не то, что взял котомку, как вам, безродным, за нами груз предков.
— Вы дурно поступаете с вашей сестрой. Я, собственно, затем и пришел вам сказать.
— Дурно! Только что мы уговаривали ее не пить, а она говорит: неизвестно какого рода будут напитки в бесклассовом обществе. А по вашему мнению?
— Не исключена возможность, что врачи приобретут большое влияние в бесклассовом обществе, кроме того, врачебная наука приобретет то единство, которого ей сейчас не хватает, а если мы приобретем достаточное влияние, то бесспорно алкоголь будет применяться как врачебное средство.
— Чепуху порете! А чем вот Людмила вам плоха? Выматывайтесь отсюда. Или хотите пойти туда?
— Нет, я бы хотел видеть Сусанну здесь.
— Прекрасно. Вы хотите ее тело, Людмила любопытна и знает все ее повадки, будем говорить в открытую, при закрытых глазах вы их не различите, а даже получите большее удовольствие, она сильнее, и ловчей, и опытней.
— Нет, я хотел бы видеть Сусанну на очной ставке с вами. Я знаю те соображения, по которым вы ее подпустили к Населю и Ларвину. Здесь даже нет расчета, какой мог бы быть, если б вы ее… здесь просто надругательство. Я хочу его вскрыть.
Людмила захохотала.
— Он мне нравится.
— Видите, Матвей Иванович, вы ей нравитесь, а это полное согласие. Бери овес, Людмила, отличная партия, и вполне обернешься до того момента, когда попадем в бесклассовое, дядя Савелий…
— Опять он.
— Без него не обойдешься. Бери овес и уходи с Матвеем Ивановичем.
— Идемте к нам. Сусанна не придет до вечера.
— Я не хочу к вам. Мне, какой бы то ни было ценой, необходима Сусанна. И разговор с нею в вашем присутствии.
— То есть, что это значит, какой бы то ни было ценой?
— А все, что вы можете понимать под ценой.
— Но я не знаю, сколько вы стоите на рынке. Вот овес, его необходимо испробовать, мне кажется, он затхлый, большая партия, очень ответственно, надо вывезти из склада. Это тот овес, который съели классические крысы, ах, сколько они несут в своих желудках возможностей жить тунеядцами. Овес трудно перевезти, и надо распродать извозчикам незаметно, вообще, с ним столько хлопот. Так не хотите ли ради Сусанны? Я, пожалуй, смогу ее сюда доставить, если вы отведаете овса.
— Сухого или вареного? — спросил доктор.
— Кони любят сухой.
— Я могу. Нужно вычесть пропорционально, сколько же я должен съесть, но мне надо запивать его хотя бы чаем, но, с другой стороны, кони же не пьют чай.
Людмила насыпала на тарелку. Все-таки поступок доктора ее изумлял.
— Кто бы вы ни были, но вы будете удивительным человеком, и я верю вам, что вы любите сестру.
— Мне только это и необходимо, вы тогда устройте мое счастье, мне необходимо только убедить вас, что существуют необыкновенные любовники, для которых половая любовь важна, но духовная все же стоит на первом месте.
— Вот это и кажется мне сомнительным, как так на втором животная часть?
— Но, извините, я не интересуюсь прошлым Сусанны.
— Да вы и настоящим не очень.
— Однако же вы утверждаете, что у вас было 400. Однако у вас нет ни одного ребенка, значит, вам мужья не дали того удовлетворения, в результате которого появляются дети. — Вы плохо знаете современную индустрию. — Доктор положил в рот несколько овсинок. Разочарование выразилось на его лице. Он думал, что овес приготовлен по особому способу, об этом он успел мне шепнуть, или он желал меня успокоить или показать, что Людмила сочувствует его любви; я тайком, ведь все смотрели на доктора, положил в рот овсинку и понял, что овес был самый обыкновенный, даже и не поджаренный, уж не говоря о каком-то особенном способе. Понял, что Людмила не испытывает к доктору никакого сочувствия, а желала его испытать. Как вы уже обратили внимание, руки у меня были связаны и мне надо было наклониться головой к столу. Доктор очень ловко придумал, когда завязал мне руки за спиной; мне стало противно, что он меня обманывает, делая этих людей выше той подлости, на которой они стояли, и я бы немедленно ушел, если бы мне не было противно обратиться с просьбой открыть дверь, открывавшуюся в комнату. Между тем доктор уже поднес миску с овсом к самому рту, затем попросил ложку и стал хлебать. Разжевывать ему было трудно, но легкий овал лица блестел и челюсти двигались с присущей ему твердостью. Он не хотел показывать, что производит какое-то особенное действо, он просто из любезности пробовал овес и тем временем вел с хозяевами разные любезные разговоры. Едва он доел миску и это гнусное зрелище кончилось, как Людмила, сказала, что он ел с одного конца, а теперь необходимо попробовать с другого, подвинула ему миску. — Человечество должно есть овес, — сказал доктор, продвигая миску, — мне просто кажется странным, что мы раньше не догадались это проделать, в этом есть особенная легкость, страшно хочется увлечения и молодости, хотя, конечно, не даром кормят детей овсянкой. — Вы сами ребенок, доктор, — сказал я, — с той разницей, что дети обычно ненавидят овсянку.