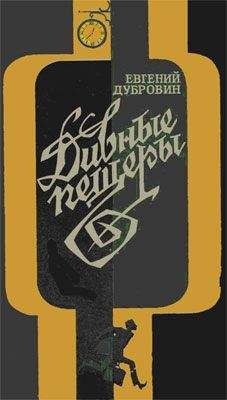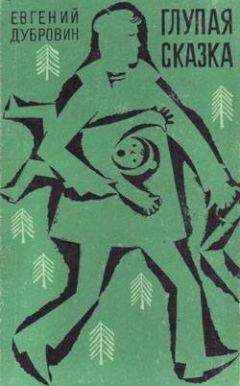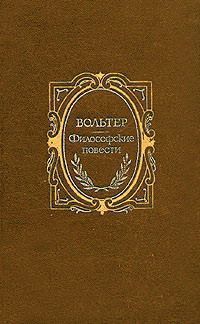Правда, Иван был бесшабашным парнем, любил погулять в хорошей компании, покуражиться. Один раз даже разбил стекло в пивной в отместку за то, что буфетчица закрыла ее раньше времени, и после этого Ивана долго «перевоспитывали», «песочили», «склоняли», пока тот не сказал: «Ну ладно, больше не буду», и тут сразу все от него отстали, потому что свое слово Иван – Железные руки держать умел.
У Кости с Иваном были странноватые отношения. Вроде бы они и не пили-гуляли вместе, на вылазках в лесу сидели в разных компаниях, у них были разные вкусы в отношении девчонок. Более того, Костя не одобрял Ивана и за шумливость, и за нетрезвые выходки, и за «правду-матку», «резавшуюся» по поводу и без повода. А Иван, в свою очередь, публично называл Минакова «ни рыбой, ни мясой», «камбалой одноглазой», «цыплятой-табака недожаренной» и тому подобным.
Но все-таки что-то тянуло их друг к другу, что-то было общее. Чувствовал младший бухгалтер, что слесарь из инструментального вроде бы негласно шефствует над ним, как бы опекает. В спорах вдруг поддержит, на собрании похвалит, да и так, встретившись у пивного ларька и проходя мимо, трепанет его по плечу.
В общем, Иван Бондарь – Железные руки был крепким, надежным, доброжелательно расположенным к Минакову человеком, и сбрасывать его со счетов не стоило. К нему можно было пойти. Даже надо. Может быть, и не поможет, но посоветует наверняка что-нибудь дельное.
Словно огромный груз упал с плеч Кости Минакова. Появился проблеск надежды. Но дома ли сейчас Иван? Может быть, на рыбалке? Наверняка закатился куда-нибудь с друзьями. Разве подобный человек станет в такую погоду сидеть дома? Конечно, нет…
Минаков приуныл. Выход был только один. Поймать Ивана завтра, то есть в ночь с воскресенья на понедельник. В ночь с воскресенья на понедельник все спят дома. Нет такого человека в мире, который бы болтался где-то в ночь с воскресенья на понедельник. Разве что бог провел где-то неправедную ночь с воскресенья на понедельник и у него утром дрожали руки, вот и получился понедельник таким тяжелым днем.
* * *
Всю ночь Костя Минаков провел в беге трусцой, а к утру нашел копну сена, забрался туда и проспал до полудня. Проснулся Костя от дикого голода. Еще никогда в жизни не ощущал он такого зверского голода. То есть это был не голод даже, а какая-то операция в желудке без какого-либо наркоза. Хирург-коновал копался в его внутренностях, резал, отсекал, давил. Костя попытался заглушить боль, пожевав травинки, но стало еще хуже: желудок начал сокращаться, как при рвоте, хотя никакой рвоты не было.
Минаков вылез из копны и побрел наугад по скошенному полю. Часа через два он вышел на железную дорогу, на домик обходчика. Домик был стандартный; кирпичный, с небольшим садиком, огородом, сараем. Костя обрадовался: уж в саду или на огороде найдется что-нибудь съестное, но тут откуда-то из лопухов вынырнула маленькая черная шавка и шаром понеслась на растерявшегося Минакова, явно норовя вцепиться в брюки. Младший бухгалтер припустил от шавки со всех ног – он знал, какие вредные эти маленькие черные создания, намного вреднее, чем серьезные, породистые собаки; очевидно, столь злобными их сделал комплекс собственной неполноценности.
«Закомплексованная» шавка преследовала его очень долго, постоянно сбиваясь на истерический визг и норовя укусить почему-то именно левую щиколотку. Отстала она, лишь наткнувшись на что-то скользкое и противное, может быть, ужа, потому что шавка завизжала, шарахнулась в сторону и рванула домой. Наверно, шавка была женской породы и, как все женщины, боялась мышей, ужей и лягушек.
Лишь к полудню Косте удалось поесть. В осиновом мелколесье он наткнулся на козу. Коза была смирная, добрая, с большими печальными глазами и огромным, чуть ли не волочившимся по земле выменем. Она явно тяготилась своим грузом и смотрела на Костю умоляюще. Минаков лег под козу, взял в рот сосок и принялся жадно сосать, помогая себе руками.
Сосал Костя до тех пор, пока его живот не сделался как хорошо накачанный волейбольный мяч. Они оба остались довольны: облегченная коза и наполненный жирной, сытной жидкостью Костя.
– Спасибо тебе, коза, – сказал Минаков вслух. – Ты доброе животное. Ты самое доброе существо из всех, которых я знал.
Минаков лег под осину и стал смотреть в безоблачное, уже полинявшее небо. Теперь действительность не казалась ему столь мрачной. Веки младшего бухгалтера начали слипаться, и странные мысли появились в мозгу, подстраиваясь каким-то странным способом под шепот встревоженных приближением осени осин и осторожный щебет птиц – под ритм всего дня, может быть, последнего свободного Костиного дня.
А мысли у Кости появились такие. Если нашлась добрая коза, то непременно должен найтись добрый человек, который, словно мановением волшебной палочки, освободит Костю от неимоверного груза бед, свалившихся на его еще не окрепшие канцелярские плечи.
И этим человеком скорее всего окажется Иван Бондарь – Железные руки. У Ивана есть все для этого: и доброе сердце, и сильная воля, и вера в торжество справедливости. Лишь бы Бондарь поверил Косте. А он поверит. Непременно поверит.
Было только одно «но», которое смущало Минакова и не давало векам окончательно сомкнуться, а животу беззаботно отдаться священному, вечному жизненному процессу – процессу пищеварения.
Дело было вот в чем. Как-то недели три назад Костя Минаков стоял возле столярного цеха и, пользуясь минутной передышкой от канцелярского сидения, выпрошенной у Шкафа по личным надобностям, наблюдал, как молодые ребята – грузчики цеха упаковки – грузили на машину пустые ящики. «Личная надобность» была ножкой для стола, которую один из мастеров согласился выточить за две бутылки «Петровской плодово-ягодной».
Поломка стола произошла во время вечеринки по случаю дня рождения одного из жильцов комнаты, где жил Костя. Этот жилец, щуплый парень, вопреки моде любил девушек рубенсовского телосложения. Такую он и пригласил на свой день рождения. Во время танца девушка рубенсовского телосложения споткнулась о ногу сидящего на стуле Минакова и рухнула всей тяжестью на стол. И ранее не хваставшаяся своим здоровьем ножка не выдержала такого удара и сломалась. Наутро комендантша обнаружила поломку и поставила ультиматум: в трехдневный срок или купить новый стол, или починить старый. Конечно, чинить, решила комната. Но кому? После длительной дискуссии было решено, что чинить должен Костя Минаков, так как если бы он не протянул чуть ли не через всю комнату свои длиннющие ноги («Я виноват, что они у меня такие выросли?» – «Не виноват, но держи их при себе»), то рубенсовская девушка не упала бы («Зачем больше центнера привел? И так вся мебель на ладан дышит». – «А где записано, что больше центнера нельзя?»).
Вот почему Костя стоял возле столярного цеха и, чтобы оттянуть момент возвращения в ненавистную бухгалтерию, наблюдал, как грузчики кидают в машину ящики. Работа шла споро. Ребята были молодые, крепкие, на заводе новенькие, наверно, только что демобилизованные.
Тут к Косте подошел Иван Бондаренко и спросил, что здесь делает младший бухгалтер. Костя ответил. Иван даже расстроился.
– За две бутылки?! Простую чурку?! Ах, живодеры! Совсем зажрались в этой столярке, коты деревянные! Пойдем, я тебе эту ножку за пять минут сделаю!
Иван схватил Костю за рукав и потащил в столярку. Костя забормотал, что, дескать, неудобно, что договор дороже денег, но тут оба остановились: с охапкой реек к ним шла упаковщица из цеха отправки, с которой у Кости Минакова была такая нелепая любовь, «пирожковая», как назвал ее потом Костя (самое приятное, что он сохранил от этой любви, было воспоминание о нежных, хрустящих, таящих во рту пирожках).
Хотя их история особого шума не произвела, все же о ней знали все. Знали, но говорить как-то на эту тему было не принято на заводе: и все же при появлении упаковщицы все невольно бросали работу и поглядывали на нее, как на что-то экзотическое, чрезвычайно любопытное. На Костю – нет, на Костю не смотрели. Мужик он и есть мужик, чего с него взять, да еще с холостого. Про Костю, можно сказать, забыли, словно он и не существовал в этой истории вовсе.
Упаковщица шла мимо них, опустив голову – после того случая она всегда ходила с опущенной головой, – и все смотрели на нее. И грузчики возле машины, и шофер, и Иван Бондарь, и даже Костя уставились на женщину. Видимо, и он уже начал считать, что не принимал участия в «пирожковой любви».
Упаковщица шла, пунцовея от устремленных на нее взглядов, и вдруг прозвучало похабное слово. Слово прозвучало громко, звонко, молодым петушиным голосом, с каким-то даже радостным волнением. Это сказал молодой грузчик, видно, самый молодой из всех, уж слишком сорвался у него голос, слишком упоенно выкрикнул он ругательство.
Слово прозвучало и осталось висеть в воздухе. Раздался неуверенный, недружный смех.