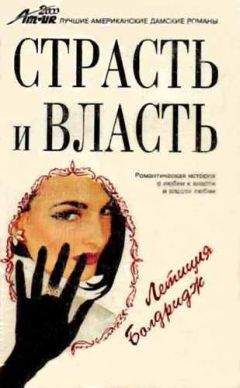— «Врач из поселения Кирьят Арба Барух Гольдштейн, — деловой скороговоркой сообщал диктор, — расстрелял из автомата 29 арабов, молившихся в пещере Махпела…»
Юра был оглушен: «У могил патриархов?! В Святом и для евреев и для арабов месте!..»
Голос диктора звенел, — словно объявлял о начале войны. Впрочем, война могла начаться в любую минуту… Юра выскочил из автобуса на первой же остановке, позвонил из автомата в свой компьютерный отдел, попросил, если можно, сегодня его заменить: он должен быть дома, рядом со своими малютками.
Местный транспорт — из Иерусалима в Эль Фрат — отправляется лишь трижды в день. Пришлось долго голосовать в толчее солдат-отпускников, на развилке шоссе на Рамаллу, наполовину перекрытом сегодня демонстрантами всех мастей «Зеленые» клеймят Рабина, «Шалом ахшав» (Мир немедленно!) — славит.
Добрался до своего Эль Фрата лишь через два с половиной часа.
Задыхаясь, влетел в дом. Никого. Лишь бабушка гремит на кухне горшками.
— Где дети?
Голос у бабушки безмятежный, «еще довоенный», мелькнуло у Юры:
— ВнучА ушла с «паровозиком». В хате холодно. Решила погреть наших козляток на солнышке.
Выскочил на улицу. Откуда-то гремит чужой металлический голос. В «матюгальник» орут, что ли? Добежал до угла, откуда открывался каменистый пятачок, Сенатская площадь Эль Фрата, как называл ее Юра: на «Сенатской» происходили все сходки и партийные «разборки». Там темнела плотная, будто сбитая в кулак толпа, колыхавшаяся от возбуждения и что-то кричавшая. Подбежал ближе, сразу различил несколько «своих», в черных шляпах. Ортодоксы из американцев — самые непримиримые. А вот двое из Южной Африки, беглецы от «каторжника Манделы», как они его неизменно величали.
Чуть поодаль горбится на холодном ветру Сулико. Примчался впопыхах без пальто, в своих неизменных солдатских шортах с белыми ниточками «цицес» по бокам. Пританцовывает на худых ногах поодаль от толпы. Вроде он и тут, и в стороне. Нет его…
Марийки с коляской нигде не было.
Но о чем вещал звеневший «матюгальник»?
— «Геройский подвиг Баруха Гольдшейна, которым полна сегодня наша печать, блистательный ответ поселенцев мертвому правительству Рабина. Завтра в Кирьят Арба торжественные похороны героя, на которые…»
— Урэ-эй! — во всю силу своих легких вскричала толпа. И забила в ладоши, задвигалась. — Все поедем туда!
«О, Господи!» — И тут Юра увидел Марийку с «паровозиком» — длинной, из двух отсеков, никелированной американской коляской на шинах-дутиках. Жена слушала оратора тоже поодаль от толчеи, хоронясь за камнем с подветренной стороны, и… тоже аплодировала.
Марийка никогда не была модницей. До свадьбы неизменно появлялась в своем полосатом платье, стянутом у длинного «журавлиного» горла какой-то медяшкой. А сейчас — мать натаскала тряпок, никаких шкафов не хватает. Расклешенная марийкина юбка до пят полощется на диком ветру, как флаг корабля…
Сменились ораторы, передав друг другу «матюгальник». Зазвучал вдруг знакомый, с хрипотцой «адмиральский бас», который Марийка отчего-то ненавидела с первого дня. Не поверил самому себе: ослышался? Наконец, разглядел оратора в спортивном «олимпийском» свитере, поднявшегося на плоский камень — трибунку с мегафоном в руках. «Шушана?!»
Кинулся к Марийке разъяренный: — Мари! Ты что, модница, с ума сошла?! Чему ты аплодируешь?!
— Ты разве не слышал? — воскликнула раскрасневшаяся Марийка, когда он потащил и ее, и «паровозик» с детьми подальше от ревущей толпы. — Митинг в честь геройского подвига…
— Какого подвига?! Это ужасная провокация! Вроде той, когда кто-то хотел взорвать мечеть Эль Акса…
— О чем ты говоришь, Юрастик?! — возмутилась Марийка. — Если все будут молчать, нам жизни не будет. Каждый раз, когда я высовываюсь за ворота Эль Фрата, навстречу летит камень. Только выскочили с Ксенией на серпантин, на втором витке разбили в «Вольве» стекло, она помчалась вниз, как на самолете, чуть не сорвалась в это чертово каменное «вади», а там, если греметь до дна, костей не соберешь… Утром швырнули в американца бутылку с «коктейлем Молотова», машина взорвалась…
— Так, — молвил Юра стянутыми, скорее, не от холода, а от нервного напряжения губами. — Сегодня дождались и большего: в мечетях объявлен «джихад». Священная война.
— Пусть только полезут! Мы уже звонили на израильскую базу, которая у шоссе. Там объявлена боевая тревога. Здесь, в Эль Фрат, у всех автоматы. Нельзя медлить. На войне как на войне. Пока мы не проучим их в самой Рамалле нам житья не будет…
От Юры аж пар пошел.
— Значит, ты уже объявила войну всем арабам, дур… — едва удержал брань на кончике языка. Хохотнул нервически: — Слушай, ты бы хоть в Еврейский Закон заглянула… для самовоспитания…
На каких условиях может быть объявлена, по еврейским книгам, война? — усталым и сердитым голосом педагога, раздосадованного бестолковостью учеников, продолжил Юра… — Почему об этом не во время? Как раз самое время. Объявляет царь, вспомнила? Но при каких непременных условиях? Если с ним согласен весь синедрион — семьдесят мудрецов. И Пророк подтверждает, что Бог этого хочет… А вы с Шушаной одни решили за всю иерархию еврейских мудрецов…
— Юра! — жестко и вполголоса произнесла Марийка, так как Ахава зачмокала губками, просыпаясь. — По тебе и детям стреляют, этот мерзавец Саддам Хусейн «скады» бросал, теперь появились исламские самоубийцы, от которых не убережешься. Мы живем тут в окружении фанатиков!..
— Ох, Марийка! Ты что, Афина Паллада из израильской самодеятельности? Если бы вы нас сюда не вытащили, никто бы по нам ничего не бросал. Мы легли спать на гвозди, как Рахметов, и жалуемся, что больно. Конечно, больно. Но кто нас просил на них залезать… Ты Тору сдавала в Москве? Когда «гиюр» проходила… Хотя бы слышала про заповеди «НЕ УБИЙ»? Она, кстати, вовсе не отрицает обороны, но, запомни, дурашка моя! без «НЕ УБИЙ» нет иудейской религии… Разве не слыхала мудрых слов пророков… «перекуем мечи на орала»?
— Это у Льва Толстого! — возразила до ужаса эрудированная Марийка… Разве у Пророков тоже?
Марийка погрустнела, быстро покатила свой «паровозик» с захныкавшей Ахавой к дому, у дверей задержалась, сказала устало, с покаянной интонацией:
— Не злись, Юра! В конце концов, я — русская баба. А еврей я хорошо недоученный… И я боюсь за наших детишек…
Кто испугался за Юрину семью, так это Сулико, привязавшийся к соседским малышкам, как родной дед. Сулико предвидел, что начнется на «территориях». И уже хорошо знал своего соседа Юру Аксельрода. «Юра норовист, непредсказуем, — полезет на стену, чем это кончится? Дуболомы выбросят «чужака» из поселения вместе с его козлятками…» Вот и сейчас он вроде бы внимательно слушал оратора, а углядел краем глаза: Марийка помчалась домой, сломя голову; ее сменила на ходу бабушка Ивановна, одной рукой коляску покатила, второй цепко держит за ручку Игорька, тот все время норовит вырваться из-под опеки; наконец, видно, Ивановна разрешила ему помогать, толкает коляску сзади обеими руками, рожица счастливая. Дотолкал ее до широкого, как дом, валуна, уперлась коляска в камень, ни туда — ни сюда. Ивановна оттаскивает коляску, бранится…
Огромных, с покатыми краями, валунов здесь, у склона Иудейских гор, и без того видимо-невидимо, а уж у соседа… Подумал, появится завтра в поселении араб-бульдозерист, не забыть сказать ему, чтоб выковырял у «Ивановных» пару самых здоровых. Негде пацанятам играть…
У Сулико были основания для тревоги за мужа Марийки, диссидента, «тюремную косточку»… С Шушаной, ближайшей соседкой, Юра отныне не только не хотел разговаривать, видеть ее не желал. И отшатнулся бы от нее безвозвратно, если бы не… автобус. Вечером, после работы, в Эль Фрат можно вернуться, коли своя машина не на ходу, лишь последним девятичасовым автобусом. Опоздал, кукуй на автостанции до утра…
Юра видел: многие в Эль Фрате годами бы друг с другом не встречались, а, встретившись, может, и отворачивались бы, если б не поселенческий автобус. В битком набитой машине толкнешь ненароком соседа локтем, наступишь на ногу — как не извиниться?! А, извинившись, и в беседу невольно вступишь. И не только о погоде…
Забрызганный грязью «поселенческий» автобус был, и на этот раз, утрамбован до предела, в кузове духота, проход забит горой сумок с продуктами, детишки хнычут, единственный свободный уголок на последней скамье. На нем, правда, чей-то рюкзак. Двинулся туда, там Шушана в потертой кожанке приткнулась к окну. Издали, за широкими спинам и грудой вещей, ее, маленькую, худую, и не видно.
Разглядела соседа, кивнула ему, опустила лежавший рядом рюкзак на сырой грязный пол.
Пока из Иерусалима не выехали, и Юра, и Шушана молчали. Юра развернул свежий номер газеты на английском «Джерусалем пост» и углубился в него. На соседку и не взглянул.