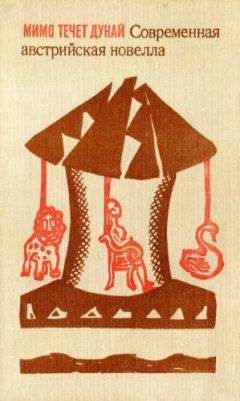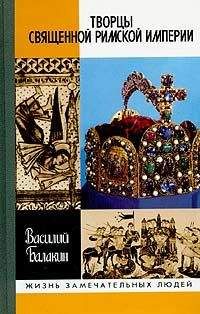— Садись, тебе говорю! — еще раз приказывает Фердинанд Катарине, именно теперь решив ей доказать, что он может и по-другому, может и покруче, и если понадобится, то и кулаком.
— А я вот не хочу, как ты хочешь! — вскидывается Кати. — Сам видишь, со мной кавалер. Что ж ты и его за столик не приглашаешь? Мы ж с ним вместе пришли!
— Заткнись! С тобой нынче по-другому надо разговаривать.
— Ты небось и не знаешь, как себя в обществе вести, — продолжает язвить Катарина.
Мануфактурщику Лукингеру, сначала самодовольно слушавшему эту перебранку, постепенно делается не по себе, больше всего ему хотелось бы смыться.
— Оставлю-ка я вас тут одних, — говорит он не без задней мысли, — терпеть не могу, когда жених и невеста ссорятся.
— Какие еще «жених и невеста»? — взвизгивает опьяневшая Кати. — Этого еще не хватало! Не пойду я к нему в поломойки! Он приказывает, а я ему пятки лижи — вот как он себе нашу любовь представляет. Не хочу, и все! Я с тобой останусь. — И Катарина бросается Лукингеру на шею. Тот смущенно защищается от ее бурного натиска.
— Шлюха! — вырывается у Фердинанда. — Вот ты, оказывается, какая!
— А ты поосторожней выражайся! — предупреждает его Мануфактурщик.
— Да пусть себе сидит тут и пиво сосет, — наслаждаясь своей победой, говорит Кати. — Кому он нужен такой! Только и знает, что подсчитывать, нельзя ли где еще пятак выкроить.
Катарина разошлась, в голове у нее все перемешалось.
— И этого тебе нельзя, и того! А это ты сделала? — кричит она передразнивая. — Хватит, натерпелась я! И еще он без конца грозится — родителям обо всем расскажу. Лукингер мне сказал, что будет со мной любовь крутить, а тебе я отставку дам. Жадюга, вот кто ты! На ярмарке ты мне не указ, я тебе тут не девчонка из Юльбаха! Вот буду делать чего хочу, и все тут! — кончает Кати и с ненавистью смотрит на Фердинанда Лойбенедера.
А тот хотел бы вскочить, но до того ошарашен всем происшедшим, что колени у него подгибаются. Будто карточный домик в палатке предсказательницы, рухнул давно лелеянный им план. «Сволочь, сволочь! — думает Фердинанд о Лукингере. — Всех, всех доведет до погибели, всех по миру пустит, а они ему еще лапы лижут». Он вспоминает разговоры своих товарищей по работе — и тут и там, мол, они Мануфактурщика видели. И каждый-то день он с другой ходит. Приличный человек ему и руки не подаст.
Катарина хохочет. Мануфактурщик взмахивает на прощание рукой, и они удаляются. Кати все еще обнимает своего кавалера за шею, и ему приходится пригибаться под ее тяжестью.
Лойбенедер видит их еще раз, когда Лукингер увлекает девушку в темный проход между двумя балаганами, откуда спускается тропа к прибрежным лугам. Там уже ночь, там им никто не помешает.
А он, Лойбенедер, думает о собственном домике под Кацбахом, о садике, который он хотел посадить. Год-другой — и все это было бы у них. Выйдя на крылечко, он сказал бы Катарине: «Видишь, как хорошо все получилось? Мы и не заметили, как время пролетело. А теперь у нас с тобой родной дом…»
У каменного парапета плещутся волны Дуная. От фонарей на воду ложится светящийся частокол отблесков, и могучая река кажется забранной кольями. Грудью она наваливается на них и уносит с собой весь шум и гам Урфарской ярмарки. И туда же, к поющим лугам, улетают мечты людей, и туда же устремляются парочки влюбленных.
Но над рекой летают и вороны. «Kapp, каррр», — раздается их хриплый крик. Вот они опустились на берег, должно быть почуяв, что ко всей мерзости, плавающей по каналам круглый год, теперь прибавились и отбросы ярмарки, а перед долгой зимовкой не мешает полакомиться жирной пищей.
Черной громадой высятся Пфеннингберг. За темными лесами на противоположном берегу падает звезда.
Быть может, под ивами кто-нибудь и видел, куда она упала, и пожелал, чтобы загаданное поскорее сбылось?
В эту ночь позади трактира на берегу Дуная убили Мануфактурщика. Убийца, должно быть, подкараулил его у забора с плохо вбитыми кольями. А труп бросил в Дунай, полагая, что река поглотит его навсегда. Однако преступление было обнаружено уже на заре следующего дня. Чересчур длинный пиджак Лукингера зацепился за корягу. Великая река, обычно поглощающая всё и вся, на сей раз отказалась принять убитого в свои воды.
Наступила ночь на св. Андрея; с нее начинаются приготовления к рождеству (уже собирались в тучах полчища мертвых, уже смешался их шепот с шумом дождя и ветра), и, как в лесном захолустье, где люди еще прозябают в темноте, женщины, томящиеся по мужу, стремились приподнять в эту ночь благодатную завесу над будущим при помощи колдовства, о котором рассказывали им беззубые бабки. Они все хотели узнать, что ждет их лоно — языческую святыню, священную рощу, — для кого защищали они шерстяным бельем и держали наготове средоточие своей плоти. Примерно так их матери держали наготове воскресное жаркое, пока отец сидел в трактире и играл в тарок. В доме благоухает соус для жаркого, а за окнами — зима без запахов, и маленький, словно игрушечный, охотник, а может быть, помощник лесничего подымается по далекому горному склону в лес. Терзает голод. Невозможно все время думать о младенце Христе, все рождество, когда зачастую весь день напролет сидишь на лежанке и вяжешь. Можно лопнуть с досады, вдыхая запах жаркого, которому радуешься уже годы и боишься, чтобы оно не перестоялось прежде, чем настоящий едок прочтет застольную молитву.
Св. Андрей! Пойми! Мы живем тоской и надеждой. Одни трясут деревцо и прислушиваются, не залает ли собака и в какой стороне; другие, посмелей, прокрадутся ночью в овечий хлев, ощупают в темноте спящих животных, воображая, что нащупывают руками свой жребий: шерсть, дыхание, рога — баран! Другие перед тем, как ложиться спать, в обрядовой наготе наступят на соломенный тюфяк или повесят на окно рубашку, чтобы она, пропитанная теплом и запахом их тела, развевалась за окном, как заклинающее духов знамя. Пусть грядущее (даже сама смерть) станет зримым — туманный образ в тусклом зеркале над умывальным столом. Жизнь есть волшебство, ожидание в темноте, блуждание вокруг таинства оплодотворения; такие ночи помогают нам; в такие ночи веет лесной ветер, молотки, повешенные у ворот, сами колотятся в ворота, в такие ночи спадает штукатурка с церковных стен, и — смотри-ка! — они сложены из камней, на которых начертаны руны; обнажаются таинственные письмена (мы бы охотно разгадали их смысл, но церковные власти вызывают штукатура и приказывают снова замазать облупившиеся стены).
Кельнерша Агнесса тоже кое-что знала о таких вещах. Но она жила теперь невдалеке от железной дороги, слышала свистки паровозов и видела, как уходят ее годы, словно поезда по расписанию, на которые мы опоздали (огни последнего вагона над рельсами становятся все меньше и удаляются все дальше, и скоро темнота воздвигнется перед нами, как черная стена). И она знала, что тут не помогут ни молитвы, ни заклятия; ты горбата и останешься одинокой, без благословения, невозделанная, словно целина, внесенная в кадастр и навеки забытая.
Но тоска сильнее рассудка, и надежда часто упорнее самой достоверности — вот что постигла горбатая кельнерша Агнесса, когда это нашло на нее внезапно, словно болезнь.
Поначалу она даже не вспомнила, что настала ночь св. Андрея. Она пожелала доброй почи хозяину и поднялась в свою комнату, как каждый вечер. Разделась, как всегда, умылась, как всегда, почистила зубы; потом, тоже как всегда, забралась в постель и потушила лампу на ночном столике. Как всегда, перина холодным пуховым облаком окутала ее тело, и, как всегда, дождик за окном запел ей монотонную колыбельную песню. Она быстро уснула с ощущением, будто летит вниз головой сквозь постепенно расширяющуюся шахту в синеющее небо, и это небо — иссиня-черная вода, непостижимые глубины. Руки водорослей тянутся ей навстречу, рыбы скользят вдоль ее тела, рыбы с орлиными или свиными головами и огромными распластанными словно крылья плавниками. Она попыталась защититься от них, закричала. Но странным образом ничего не услышала. Вода журчала у нее в ушах и во рту, вода вымывала ее глаза из глазниц, вода заполняла ей легкие и сердце, вода вливалась в ее лоно… И тогда она действительно закричала и проснулась, села на кровати, широко раскрыв рот; тьма в комнате еще колебалась от ее крика, а снаружи по-прежнему журчал дождь.
Агнесса снова зажгла свет и поглядела на будильник. Был час ночи, следовательно, прошел всего один час с тех пор, как она легла. Опа подозрительно огляделась вокруг. Вот стол, вон шкаф, вот стул, на котором лежит ее платье. Но все вдруг показалось ей другим, чужим, опрокинутым, словно вывернутым наизнанку. «Странно!» — подумала она и оттолкнула ногами перину. Внезапно ей стало жарко, как в адском пекле, ее тело покрылось потом, а сердце бешено забилось, как у птицы, — сто двадцать ударов в минуту, не меньше.