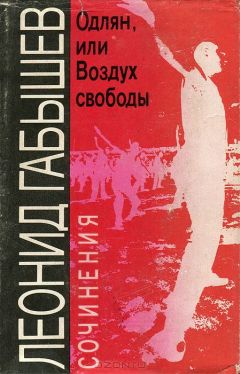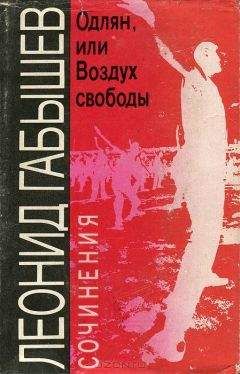Открылась кормушка, и женский голос крикнул:
— Петров!
Глаз подбежал к кормушке.
— К тебе на свидание приехала мать, — сказала женщина. Она всех заключенных водила на свидание. Глаз знал ее. — Но тебя сегодня забирают на этап. К этапникам тебя посадят после свидания. А сейчас вашу камеру поведут в баню. Ты побыстрей помойся, и я тебя из бани поведу на вахту.
Через несколько минут камера спускалась по витой лестнице. Глаз шел впереди, разговаривая с женщиной.
— Я быстро помоюсь. Вы можете сейчас на вахту и не ходить. Подождите меня. Я р-раз — и мы пойдем.
Когда шли мимо окон корпуса, Глаз решил крикнуть подельнику Роберту. Ему исполнилось восемнадцать, и он тоже сидел на втором этаже.
— Робка, — закричал Глаз, когда они проходили мимо окон, — меня забирают на этап!
— Давай, Глаз! — услышал он крик из окошка.
— И свидание у меня сейчас, — добавил он.
Когда Глаз отвел взгляд от окна, к нему подходил начальник режима майор Прудков.
— Петров, свидание, говоришь, у тебя. Я лишаю тебя свидания.
Глаз с работницей вахты стояли и смотрели на майора. Заключенные обошли их. И тут Глаз взмолился:
— Товарищ майор! Простите. Меня сегодня забирают на этап. Мать приехала — и ни с чем увезут. Ради Бога, я сегодня последний день в тюрьме, разрешите повидать старуху.
Женщина смотрела то на Глаза, то на майора. Свиданка в его руках.
— Ладно, — сказал майор, — ведите на свидание.
— Благодарю, — сказал Глаз, и они с женщиной пошли к бане.
Заключенные раздевались, когда Глаз заскочил в баню. В считанные секунды разделся и шмыгнул в резиденцию Сиплого.
— Меня забирают на этап. И плюс сейчас иду на свиданку, — сказал он Сиплому.
— Кто к тебе приехал? — спросил Сиплый.
— Мать. У меня все острижено и обрито. Я пошел мыться.
— Иди, — улыбаясь, сказал Сиплый и проводил Глаза взглядом.
Глаз вошел в комнату для свиданий. Туда же, с другой стороны, вошла мать. Они поздоровались. Сели на стулья. Их разделял только стол.
Мать стала рассказывать об отце. Он сильно болен. На днях его парализовало.
— Долго тебе еще сидеть, Коля, — сказала мать. — Шесть с лишним лет. Ох и долго. — Она опустила глаза, вот-вот расплачется.
— Шесть с лишним лет — это по концу срока. Я же малолетка, могу и раньше освободиться. У нас есть одна треть, половинка. Мне, правда, идут две трети. Это надо отсидеть пять лет и четыре месяца. А что, буду в колонии себя хорошо вести — и освобожусь раньше.
— Будешь ли? — переспросила мать.
— Буду. Конечно, буду. Это здесь, на тюрьме, я баловался. Так это потому, что здесь заняться нечем. А на зоне я исправлюсь.
Мать повеселела. Рассказала падунские новости.
— Я тебе передачу принесла. В сентябре я к тебе тоже приезжала на свидание и передачу привозила. Но ты, мне сказали, сидишь в карцере, и я уехала назад. Мне сказали, что ты что-то со шваброй сделал. Что, я не поняла. Сегодня я тебе, наверное, привезла больше пяти килограммов. Не пропустят больше-то?
Глаз взглянул на женщину и спросил:
— Если будет больше пяти килограммов, пропустите? Я последний раз в тюрьме.
— Посмотрим, — ответила работница вахты.
Глаз еще немного поговорил с матерью, и свиданка закончилась раньше времени. Повидались, а о чем больше говорить?
Глаз, прощаясь с матерью, подумал: «Сеточка правильно нагадала скорое возвращение домой через больную постель и казенный дом». Из Одляна он возвратился, правда, не домой, но в заводоуковское КПЗ. В челябинской тюрьме полежал в больничке. И ему добавили срок, то есть — казенный дом. «Боже, а все же карты правду говорят».
Женщина передачу пропустила всю, и повела его в корпус.
— Как за вас переживают родители. Ой-е-ёй. И зачем ты матери сказал, что будешь хорошо себя вести и раньше освободишься? Ведь тебя, наверное, и могила не исправит.
— Как зачем? Чтоб мать меньше переживала.
Глаз в камере угостил зеков и сказал дежурному:
— Старшой, меня забирают на этап.
— Ну и что?
— Все, прощай, тюменская тюрьма. На тот год опять приду. На взросляк.
Дежурный молчал.
— Старшой, сделай для меня последнее доброе дело. В двадцать пятой сидит Роберт Майер. Передай ему продуктов. Совсем немного. Сделай, а? Вечно помнить буду.
— Давай.
Ночью этапников погрузили в «воронок», но дверцу на улицу конвой не закрыл. Кого-то еще посадят в стаканы. Может, женщин.
Но конвой на этот раз суетливый. Часто залезал в «воронок» и опять выпрыгивал на землю. Стакан открыли заранее, сказав:
— В этот его.
Какая разница между двумя стаканами, Глаз и зеки не понимали. Стаканы одинаковые.
И тогда взросляк спросил конвойного:
— Старшой, кого с нами повезут?
— Смертника, — ответил тот и спрыгнул на землю.
— Кого же из смертников забирают на этап?
— Коваленко, — сказал кто-то, — ему приговор утвердили.
С сыном Коваленко Володей Глаз сидел в осужденке.
Коваленко избил жену и из окна второго этажа выбросил соседа. Сосед скончался в больнице. У Коваленко это второе убийство, за первое отсидел. В тюрьме говорили, что, может быть, ему бы и не дали вышак, но он суд обругал матом и сказал: «Жаль, что убил одного».
О таких людях базарит вся тюрьма. Их единицы. И разговор о смертниках — вечная тюремная тема. Никто точно не знает, приводят ли приговор в исполнение или приговоренных отправляют на рудники, где они медленно умирают, добывая урановую руду. И вот теперь Глазу предстояло ехать в одном «воронке» со смертником. А потом и в «Столыпине». Этап был на Свердловск, и, наверное, если смертников расстреливают, то расстреливают в Свердловске. Свердловск, как все говорят, — исполнительная тюрьма. Недаром и Николая II расстреляли в Свердловске.
Из открытой дверцы «воронка» Глаз видел полоску тюремной земли. Зеки не разговаривали. А Глаз все смотрел на тюремный двор и ждал, когда из этапки выведут Коваленко.
Прошло несколько томительных минут, и Глаз увидел: Коваленко идет от двери этапки. Одет в зимнее длинное коричневое пальто с черным каракулевым воротником. Пальто поношенное. На голове у смертника черная, тоже изрядно потасканная, цигейковая шапка, державшаяся на макушке чуть набок. Пальто расстегнуто, лицо заросло щетиной, а сам крепок и высок ростом.
Коваленко шел медленно, держа перед собой руки в наручниках. Шел и разговаривал с двумя конвойными. Глядя на него — не подумаешь, что идет человек, приговоренный к расстрелу, и, быть может, через несколько дней приговор приведут в исполнение. Он шел, и сквозь щетину на его лице проступала усмешка — презрение к жизни. Неужели он смирился со смертью и не реагировал на ее приближение? Или у него в душе шла борьба, на лице не отражавшаяся?
Коваленко с конвойным поднялся в «воронок». Конвойные сели, а он, нагнувшись, вошел в открытый для него стакан. Дверцу стакана конвой не закрыл, и он, сев, добродушно сказал:
— На, возьмите, я сам смастерил.
Конвойный встал с сиденья и что-то у него взял. Глаз не заметил что когда Коваленко зашел в стакан, зеки все так же молчали. Ни один из них до самого вокзала не проронил ни слова. Будто с ними в «воронке» ехал не человек, приговоренный к смерти, а сама смерть. Коваленко нес в себе таинство смерти, и потому зеки были парализованы.
И Коваленко зекам не сказал ни одного слова. Он всю дорогу проговорил с конвоем. Конвойные с ним были добрые. Глаз такого от конвоя не ожидал. Они ласково, даже заискивающе с ним разговаривали. О чем они говорили, Глаз разобрать не мог. Долетали отдельные слова. И конвой и Коваленко говорили тихо.
В «Столыпине» Коваленко посадили в отдельное купе, и до самого Свердловска он ехал один, хотя «Столыпин» переполнен. Конвойные и здесь с ним хорошо обращались. Глаз сидел в соседнем купе и слышал: если он просил пить, ему сразу приносили, если просился в туалет, его сразу вели. Глаз впервые видел, что конвой с заключенным обращается по-человечески. Но ведь они так хорошо обращались со смертником. Перед смертью пасуют все.
В Свердловске взросляков вывели из «Столыпина» первыми. Затем Глаза. На весь этап он один малолетка. Метрах в десяти от взросляков Глаза остановили. Вокруг зеков стоял конвой, на этот раз усиленный овчарками.
Из «Столыпина» вывели Коваленко. Он все так же шел не торопясь, держа перед собой руки в наручниках. Когда дошел до Глаза, конвой скомандовал:
— Стой!
Коваленко остановился рядом с Глазом, и тут раздалась команда для заключенных:
— При попытке к бегству стреляем без предупреждения. Передним не торопиться, задним не отставать. Из строя не выходить. Шагом — марш!
Зеки двинулись. Строя не было. Вокруг заключенных с автоматами наперевес шли конвойные. Собаки были спокойны. За зеками, метрах в десяти, шли Глаз и Коваленко. Их вели отдельно потому, что один — смертник, другой — малолетка. Конвой сзади шел на приличном расстоянии, и Коваленко спросил Глаза: