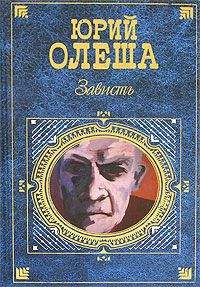Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.
Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.
Григорий подошел к спуску, задыхаясь, хрипло окликнул сына:
— Мишенька!.. Сынок!..
Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца...
Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:
— Сынок... сынок...
Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, исступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:
— Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка — живые-здоровые?
По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:
— Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От глотошной. А дядя Михаил на службе...
Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына...
Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.
Конец романа».
Но не конец жизни. Есть у этой истории продолжение.
Что потом?
Догадаться легко. Григорий пошел по всем кругам советского ада, именуемого ГУЛАГ, был он и на Беломорканале, и на Соловках, и далее странствовал по зонам...
Его сын Мишка жил в доме тетки Дуни, вышедшей замуж за Михаила Кошевого, отъявленного большевика и врага казачества. Хотя сам он принадлежал к войсковому сословию, но украинская фамилия Кошевой выдавала в нем не коренного казака, а потомка малороссийских мужиков Елисаветградской губернии, переселенных на Дон в середине девятнадцатого века и приписанных в казаки. Потому он и жил бедняком, потому и ходил в батраках, потому и подался в красные, что не был казаком по корню... Хотя считал себя казаком, носил декоративный чуб, стрелял казаков без пощады, проводя линию партии на поголовное истребление казачества. Он и сдал Григория в ОГПУ, когда тот вернулся из банды, потому как считал, и не без оснований, шурина своего, полного георгиевского кавалера и есаула, своим классовым врагом.
Ушел Григорий меж штыками конвоиров, и должны были забыть его в хуторе. Ан вот не забыли! И виной тому не только неисчислимые страдания, что принесла казакам советская сатанинская власть, и та кровь, что лилась в наших тихих станицах, и те тысячи убитых. Помнил Григория сын его Михаил, воспитанный на бабушкином шепоте: «Погоди, сынушка, прийдуть наши, и батяня твой возвернется». И чем дольше жил он в доме Кошевого, тем более его ненавидел, и вставал поперек горла ему сиротский кусок хлеба, который отрезали от пышного спецпайкового каравая ему, донскому волчонку мелеховской породы. И когда схлестнулись они однажды с Кошевым и замахнулся большевик на сына георгиевского кавалера нагайкой (тетка ударить не дала, на руке мужниной повисла), оба поняли, что дальше жить под одной крышей уже не смогут, что четырнадцатилетний Мелехов может и зарезать, и курень спалить...
И тогда Мишка ночью ушел из своего родового дома, где любимая несчастная тетка Дуня свалялась, по женской своей слабости, с врагом рода Мелеховых на родительской широкой кровати. Не видал Кошевой, как оглянулся волчонок-«каскыр», взойдя на высокий берег Дона, не видал он жгучего взгляда из-под непокорного чуба. И слава богу, что не видал.
Кошевого расстреляли не то в тридцать втором «за перегибы при коллективизации», не то по доносу своих же коммуняк в тридцать седьмом... А кто говорит, он просто спился, потому тетку Дуню из властей никто не трогал, так и дожила она в развалившемся мелеховском курене года до шестьдесят второго, ставши беззубой полусумасшедшей старухой, в поселке городского типа, каким стал хутор, где не осталось казачьего населения совсем.
Уйдя с Дону, Михаил Мелехов стал беспризорником. Родная советская власть, отловив его в московском подвале, определила в детдом как социально близкого. Он закончил ФЗУ и пошел в военное училище, где стал не то летчиком, не то танкистом. Вроде бы даже воевал в Испании, на Халхин-Голе, уцелел в мясорубке тридцать седьмого года и в сорок первом встретил фашистов на границе. Всю войну бился за нашу Советскую Родину, а после войны служил в Германии, дойдя до чина полковника, имея за храбрость все какие только возможно награды и даже, сверх того, польский крест, и еще не то польские, не то чешские медали...
Женился на девочке из детдома, в какой безошибочно угадал казачку. Но об этом они шептали только друг другу. А с виду и по всему создалась прекрасная новая советская семья, сыгравшая комсомольскую свадьбу, правда, наотрез отказавшаяся назвать сына Индустрием и назвавшая его Григорием — как считали в комсомольской ячейке, в честь Григория Ивановича Котовского. Так зашагал по земле Григорий Мелехов-второй, только не Пантелеевич, а Михайлович. Все с тем же хищным профилем, все с тем же черным чубом над соколиными светлыми, бесстрашными глазами...
Во время войны, в эвакуации, мать Григория Мелехова-второго умерла, а его, как сына военного и сироту, определили в Суворовское училище.
Или, может быть, после войны мать Григория умерла. Потому что учился он в Суворовском училище КГБ, в Петергофе, и щеголял не в милых его сердцу алых лампасах, а в зеленых. После Суворовского окончил он Училище внутренних войск и попал в Воркуту, где скоро стал начальником зоны.
Каким — неизвестно. Может быть, и таким, коих описывает Солженицын, а может, и таким, какому верили и какого любили зеки, были и такие.
В 1954 году после смерти Сталина зоны стали сокращаться. Одновременно и параллельно очередной вождь и учитель советского народа «Наш Никита Сергеевич» сократил армию и уволил на пенсию многих офицеров. Даже частушка пелась в ту пору:
Что стоишь, качаясь,
Офицер запаса,
Ждет тебя в колхозе
Должность свинопаса.
Уволили и Михаила Григорьевича Мелехова, а поскольку семьи он новой не завел, то отправился к сыну по месту его службы, в славный город Воркуту.
Прямо с поезда на присланном сыном «газике» прибыл не на квартиру — в зону, из них, в общем-то, и состояла столица Заполярья. Зона стояла полупустой, многих расконвоировали.
И возникла новая проблема, как решать ее — непонятно. При товарище Сталине, верном ленинце, расстреляли бы — и вся недолга, но теперь настал гуманизм, и целой категории зеков, отсидевших по тридцать лет и более, оказалось некуда идти. Один такой ошивался при штабе. И в тот момент, когда отец и сын сели за стол и раскупорили бутылку водки, мывший полы старый зек поднял голову и произошло нечто, что, наверное, описать нельзя.
Рассказывая об этом, житель города Воркуты, бывший полковник (я назвал его Михаилом Григорьевичем Мелеховым) начинал по-бычьи глядеть в стол и встряхивать седым чубом — голова тряслась... Он узнал отца.
Так и встретились на воркутинской зоне дед, сын и внук... И подобных случаев мне рассказывали не один. Поскольку такое происходит только в романах, в телесериалах... и в жизни. Вот где финал «Тихого Дона».
Хотя, пожалуй, нет...
У Григория Михайловича, бывшего начальника зоны, теперь уже внук растет, Пантелей Мелехов. Такой же чубатый и горбоносый, как прадед и прапрадед, правда, на Дону он пока еще ни разу не был — никого там родни не осталось... Ехать некуда.
В нашей станице дурачков проживало двое: Пияша и Митя. Какая трагедия случилась в жизни Мити, я не знаю. А Пияша стал одной из жертв раскулачивания. Когда в 1930 году пришли выгребать из подпола семенной хлеб, ему исполнилось три года. Рос он нормальным смышленым мальчишкой. Раскрыли подпол и под вопли женщин стали вытаскивать зерно. Он испугался, свалился с печи и сильно ударился головой.
Как говорят хоперцы, он «ошалел». То есть его умственные способности так и остались на уровне трехлетнего малыша. А все его жизненные силы ушли в физическое развитие.
Пияша был по-настоящему классически красив. Я помню его огромным, кудрявым тридцатилетним казачиной в золотой бородке, с великолепной фигурой, с постоянной широченной радостной улыбкой на лице. Всегда в прекрасном настроении. Всегда доволен и счастлив. У него никогда ничего не болело, хотя он круглый год ходил босиком, в одной нательной рубахе и холщовых портках. Ходил-то он, собственно, только летом, а зимой бегал, взвизгивая от радости, что мороз хватает его за пятки.
— Ай, щекотно! Ай, мороз Пияшу кусает.