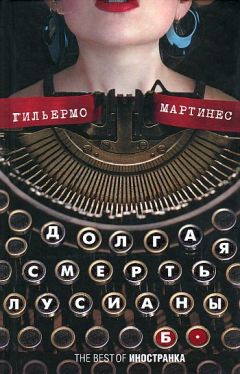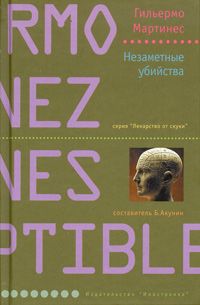стараюсь проделать я в своей программе по восстановлению процесса письма. Звук невозможно услышать непосредственно, но нам остается эхо. И на той фотографии, которую получила Кристин, – продолжил я, преследуя все ту же ускользающую мысль, – мы можем, исходя из снимка, восстановить, с определенной долей вероятности, какие движения совершал Кэрролл, выстраивая позу…
– Да, правда, – кивнул Селдом. – Реальность – всегда проекция, плоскостный след чего-то, что прокладывает себе путь в других измерениях. Насчет фотографии тоже есть новость, вызывающая беспокойство. Питерсен взял на себя труд опросить одного за другим всех, кто мог оставить Кристин послание: никто не признался, что приносил снимок.
– И что? Полагаете, будто фотография означает начало серии? Опять, как в тот раз?
– Я думаю, – заявил Селдом, – что Кристин должна как можно скорее озвучить всю фразу. По правде говоря, я все еще боюсь за нее и задаюсь вопросом… – Тут он осекся, не решаясь продолжить, собираясь с силами, чтобы коснуться весьма деликатной темы. – Я задавался вопросом с того самого дня, как мы с вами побывали в больнице, – приступил он снова, неловко, на грани косноязычия, старательно отводя от меня взгляд, – вдруг то, что Кристин не пожелала рассказать мне; то, чем не хочет поделиться ни с одним членом Братства, она, вероятно, поведает, в обстоятельствах, скажем так, располагающих, кому-то еще, кто ближе ей по возрасту, на кого она может особенно положиться.
– Вы хотите сказать, – произнес я, и передо мной мгновенно возник образ Шэрон, – что у нее, наверное, есть близкая подруга или молодой человек, кто-то, кому она могла бы раскрыть смысл фразы?
– Нет. Меня бы очень удивило, если бы у Кристин обнаружилась какая-то близкая подруга. Я всегда встречал ее в кафе одну, она даже с однокурсниками не общалась. Вряд ли у нее был молодой человек, мы бы увидели его в больнице. Вы сами наблюдали, как Кристин одна выходила из кинотеатра. Нет, я думал не о том, кому она уже рассказала, а о том, кому может рассказать. – Селдом в упор посмотрел на меня, словно не умея яснее выразить свою мысль. Только тогда я осознал, что он имеет в виду; думаю, этот проблеск понимания и еще то, что я не расхохотался ему в лицо, несколько сгладило неловкость.
– Я не мог не заметить, – продолжил Селдом, – что вы прекрасно поладили тем вечером, когда мы вместе выходили из института. Пока я провожал ее до остановки автобуса, Кристин задавала необычные для нее, заинтересованные вопросы, и только потом я сообразил, что, проявив женскую хитрость, она попросту хотела разузнать, есть ли у вас девушка здесь, в Оксфорде.
Я почувствовал, что краснею.
– Как любопытно, и я тем вечером подумал, когда вы так естественно, непринужденно уходили вдвоем, что… – я осекся, увидев, какое изумленное выражение появляется на его лице, и попытался, как мог, смягчить смысл фразы, которая уже рвалась с языка, – вы часто ходили вместе.
– Да, – подтвердил Селдом, – это правда: мы часто ходили вместе, особенно когда я был научным руководителем Кристин. Но не в том смысле, какой вы подозреваете. – Он улыбнулся. – У меня никогда ничего не было ни с одной из студенток. Или на самом деле почти никогда, – добавил Селдом, будто припомнив некое исключение, давнее, немного смущающее, вступающее в противоречие с моралью, принципов которой он постановил себе придерживаться. – И уж не в моем возрасте. Конечно, я не стал бы заводить с вами такой разговор, если бы не опасался за жизнь Кристин. Я подумал, что вы могли бы сблизиться с ней, просто как друг, ведь друзей у нее никогда не было. И если даже она больше ничего не скажет о документе, это позволит нам следить за тем, чтобы с ней ничего не случилось.
Мы погрузились в молчание, словно двусмысленная миссия, которую Селдом на меня возложил, предстала перед нами воочию, как лабиринт всевозможных последствий.
– Если бы имелась хоть малейшая надежда, что Кристин поправится, – произнес я, – несомненно, я бы попытался за ней ухаживать, даже не беря на себя никакой роли. На самом деле я об этом думал… раньше. Но, наверное, и для нее сейчас многое изменилось. Когда мы были у Кристин, я приблизился, чтобы помочь ей, а она жестом отстранила меня.
– Да, я тоже это заметил, однако придал ее жесту противоположное значение: Кристин не хотела проявить слабость, не хотела, чтобы вы жалели ее. То был проблеск гордости, способ доказать, что она еще не калека.
– Но вам не кажется в какой-то мере чудовищным, если я, в ее нынешнем состоянии, смогу пробудить в ней… определенного рода надежды?
Селдом провел ладонью по глазам, словно перед ним явился образ, который лучше было стереть.
– Вы правы. Просто я до сих пор не представляю, что Кристин не будет ходить. Это было бы невероятно жестоко. Пожалуйста, забудьте то, что я вам говорил.
Но, раз уж речь об этом зашла, не так-то легко оказалось забыть, наверное, потому, что я вообразил себя героем какого-то романа Генри Джеймса, который должен изысканно ухаживать за женщиной, чтобы добраться до секретных документов в старинном венецианском palazzo [23]. Или мною владело более сильное чувство: несмотря ни на что, я хотел снова увидеть ее, и думая о ней, тоже забывал, что она навсегда прикована к инвалидной коляске.
– Все-таки я смог бы ее навещать, – решил я, – и говорить с ней обо всем на свете, и доставлять то, что ей нужно, из внешнего мира, без претензий на что-либо большее… на какие-то другие отношения. Пусть даже Кристин и не доверит мне содержание документа, мне, вероятно, удастся оградить ее от методистских ведьм.
– Ради одного этого надо попытаться, – усмехнулся Селдом. – Вообще, мне эта идея разонравилась, я никоим образом не хотел бы добавлять страданий бедной девушке. Но если вы думаете, что сумеете повести дело так, чтобы никого не вводить в заблуждение… – Он допил пиво и показал на тома переписки Кэрролла, лежавшие у его ног. – Я обещал ей занести эти книги сегодня, а сейчас еще пускают посетителей. Так, может, вы отдадите их?
Когда я прибыл в больницу и назвал свою фамилию в приемном покое, оттуда позвонили по коммутатору в палату, сделали запись в книге посетителей, сверившись с моим документом, и отправили меня в отделение реабилитации, еще на этаж выше. Я заметил, что полицейского поста больше нет, во всяком случае на виду. Я постучал, и мне послышался за дверью какой-то прерывистый шепот. Мать Кристин чуть приоткрыла створку и вышла в коридор.
– Извините, – сказала