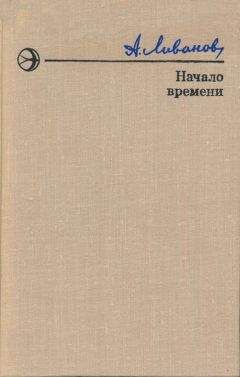выйдя из Летнего сада, пошли не в казарму, а к нам домой. Я осторожно перелез через забор, открыл изнутри калитку и впустил ребят.
Затем мы вошли в дом, где нас уже ждали отец и мать. Мама, конечно, опять заплакала и запричитала, горюя, что вот, мол, как все сложилось: муж ранен, а она даже не может сама ухаживать за больным; больше того — и проводить его до больницы не смеет.
Все вместе, осторожно обхватив отца за талию, почти подняв его, ребята вышли из дому и так, втроем, направились в больницу.
С доктором Миракяном все уже было условлено. К тому же в эту ночь дежурила Анаит. Она-то и должна была принять и устроить отца в палате.
Казалось, все обошлось благополучно, но надо сказать, что с того самого дня положение отца стало для нас с мамой предметом постоянного беспокойства.
Мы волновались, как заживает его рана, как он питается, а главное — боялись, не узнал бы кто его и не донес бы, что больной под именем Геворкяна вовсе никакой и не Геворкян.
Только спустя неделю, когда все мы немного успокоились, Цолак и Арсен решили, что можно как-нибудь нас с мамой разок провести в больницу повидаться с отцом под видом дальних родственников больного.
Неподалеку от больницы нам встретились несколько санитаров, они несли на носилках каких-то людей. Некоторые из санитаров были без халатов, а халаты на остальных были такие грязные, что лучше бы их и вовсе снять.
Меня удивило, что носилки не вносили внутрь здания, а выстраивали под стеной. Но когда мы вошли в больницу, все стало понятным: просто там не было места. И палаты и коридоры — все было переполнено больными. Лежали они прямо на полу, все без разбора — тифозные, раненые, обессиленные от голода… Отовсюду слышались стоны, крики. От густого запаха гноя, йода и карболки тошнило…
Анаит провела нас между больными в самый конец коридора. Над одной из коек склонился худой и усталый доктор. Вот он выпрямился, и санитар, что стоял рядом, спросил:
— Прикажете, доктор, унести из первой палаты Саркисяна? Того, который у окна лежит…
— А что, он уже? — почти равнодушно спросил доктор.
— Еще нет, но скоро…
Доктор помолчал, потом сказал:
— Ну что ж, пожалуй, так-то оно разумнее. Ему уже ничем не помочь. Уносите.
Санитар ушел, а мы с мамой переглянулись. Наверно, и я и она подумали об одном и том же: «Не так ли и отца лечат эти бессердечные?»
Анаит, перехватив наши взгляды, видно, догадалась, о чем мы думаем, потому что сказала вдруг:
— А что делать-то бедному доктору?.. Видите, что творится? В день поступает до сотни больных и раненых. Примерно столько же ежедневно умирает. Все устали, ни у кого нет надежды… Один только Миракян держится и другим не дает окончательно упасть духом.
Наконец мы у цели. В палате, где лежал отец, на его счастье, были только раненые.
Когда мы вошли, на краю папиной койки сидел маленький человек в пенсне, с острой бородкой. Увидев Анаит и нас, он встал:
— Вот, кажется, и родственники к Геворкяну! Не так ли?
— Да, доктор, — почтительно ответила Анаит.
— Ну что ж, могу порадовать: ваш больной молодцом, скоро встанет на ноги, — обнадеживающим тоном сказал доктор, затем чуть слышно добавил: — Будьте осторожны, не говорите лишнего.
Вид у отца действительно был много лучше, но чувствовал он себя еще не очень крепким. И чтобы не утомлять его, мы посидели минут двадцать и заспешили домой; к тому же и я и мама боялись, как бы нам не выдать себя, и потому были очень напряжены.
Я несколько раз едва не сказал «папа» вместо «дядя». А мама от страха вообще не говорила, только все утирала слезы.
Когда мы вышли из больницы, Анаит сказала, что этот маленький доктор в пенсне и есть Миракян.
…Настроение и поведение наших оркестрантов в последнее время очень изменилось. Прежних забияк и задир просто невозможно было узнать.
Понятное дело: выяснилось наконец, что Цолак не кто-нибудь, а настоящий большевик. Большевик!.. То есть один из тех людей, о которых мы и раньше говорили, понизив голос до шепота, один из тех, кто в мае поднял восстание и кого Нокс объявил «самыми страшными врагами»…
И все мы понимали, что Цолак не случайно очутился в полку. Он установил связи с солдатами и с их помощью распространял листовки в подразделениях, среди запасных, и даже переправлял их на фронт.
И, уж конечно, действовал он не без указаний и помощи других большевиков города. Разумеется, обо всем этом мы только догадывались, потому что Цолак, как и прежде, был скрытен, не называл никаких имен и адресов и от нас требовал соблюдения строжайшей тайны. Но теперь-то мы на него не сердились — понимали, как все это серьезно. Кстати, не все оркестранты знали о Цолаке то, что стало известно нам. Только Арсен, Завен, я, Вардкес, Корюн, Асканаз и еще двое-трое ребят были в курсе дела.
Была у нас и другая причина не делать глупостей: это тайна моего отца. Под видом знакомых или родственников музыканты навещали его, носили передачи, рассказывали о том, как идут дела у нас дома, в оркестре, в городе…
Было и еще одно важное дело: Цолак, как обещал когда-то, стал учить нас «играть по его нотам»…
Усиление большевистской агитации в полку, понятно, беспокоило командование. Принимали разные меры борьбы. Но нас, к счастью, никому и в голову не приходило заподозрить в «неблагонадежности». Музыкантов считали бездельниками, дармоедами, любителями подурачиться и прочее, а потому, верно, считалось, что от нас можно ждать чего угодно, только не политических выступлении. И это было нам на руку.
…Во дворе вдоль казармы, у дымящейся походной кухни, выстроились солдаты в ожидании, когда их котелки наполнятся жидкой баландой, называемой супом.
Осень, небо заволокли серые тучи, дует холодный ветер. Солдаты приподняли воротники шинелей, тихо переговариваются:
— В этом году так и не провели осенней вспашки…
— Вспашки? На чем пахать-то, скотины не осталось…
— Да, всё угнали…
— И не говорите. Страшно подумать, какой будет голод зимой. Все повымираем…
Люди горестно вздыхают, поеживаются от холода и голода. А я тем временем верчусь между ними и незаметно сую листовки то в один, то в другой карман солдатских шинелей.
Бегу в казарму. Тяжелый воздух, грязь, беспорядок. На длинных нарах давно уже нет матрацев: ведь солдаты теперь здесь долго не задерживаются. Десять-пятнадцать дней их «обучают» и гонят на