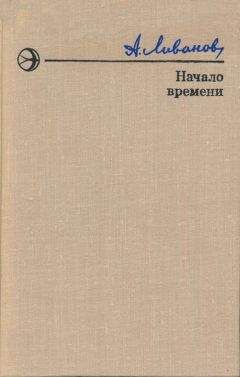фронт. А потому и никаких матрацев, одеял и подушек им не выдают. На нары насыпано сено, на нем и спят солдаты, а укрываются шинелями.
Вот и сейчас одни, уже укрывшись, спят, другие еще бодрствуют: курят, разговаривают — и всё о войне, о голоде, об оставленной в деревне семье, о плохих солдатских харчах и мало ли еще о чем…
Я почти стремглав пробегаю из конца в конец казармы и опять раздаю и рассовываю всем листовки и убегаю.
Дело сделано. Все прошло удачно, и я был доволен. А когда, выйдя во двор, увидел, как, собравшись возле кухни в кружок, солдаты, тревожно озираясь по сторонам, читали «мою» листовку, сердце у меня чуть не выпрыгнуло из груди от гордости, от чувства исполненного долга.
Я подошел к солдатам. Они на минуту смолкли, листовки как не бывало. Но один из солдат сказал:
— Читай, Гарегин, при нем можно. Это сын Дарбиняна. Я его знаю, порядочный человек был. У такого и сын порядочный, это уж точно! Читай.
Солдат, которого назвали Гарегином — маленький, с усиками, — полез в карман.
— «…Дашнакские авантюристы, — начал Гарегин, — польстившись на щедрые посулы Антанты, ввергли нашу страну в эту бессмысленную войну и ведут армян к верной гибели. Турецкая армия уже заняла Сарикамыш, Карс… «Герои», мечтавшие о шести вилайетах, ныне оставили под турецким ятаганом половину Армении…»
— А ведь верно сказано, — прервал чтение один из солдат. — Я был на фронте, знаю, как там наши дерутся. Ни тебе винтовок, ни пулеметов… Патроны и те считанные…
— А как же ты с фронта-то здесь очутился? — поинтересовался Гарегин.
— Как и многие, дезертировал, — чистосердечно признался солдат. — Да вот снова поймали и сюда привели…
— Опять будешь дезертировать?
— Э, нет, братец! Попробовал, и хватит… Прячешься в полях, в огородах, в сараях, дрожишь день и ночь от страха, голодный, холодный, а конец все равно один — поймают и снова на фронт. Я тут пока скитался, человека умного встретил, он научил меня, что теперь надо делать…
— Может, с нами поделишься наукой?
Но тут все загалдели:
— Кончайте! Завели на час. Читай давай, что там написано. Похоже, наука-то, она вся в этом листке. Потом поговорим, читай!
— «…Настал час разорвать дашнакские цепи и высвободиться из этого ярма. Восстаньте все, кому дороги жизнь и будущее народа…»
— Ясно вам? — победно вскричал бывший дезертир. — Вот об этом и говорил мне умный человек. Сам-то я раньше не очень кумекал, а теперь понимаю, что к чему…
Тут я увидел у нашей казармы Цолака; незаметно отделился от солдат и побежал к нему. Еще издали я похлопал в ладоши, показывая тем самым, что все листовки мною розданы.
Цолак улыбнулся и натянул мне шапку на самые глаза:
— Браво, Малыш! Ты молодец!
— Цолак, Анаит сказала, чтобы ты после обеда пришел к больнице.
Цолак, все так же улыбаясь, приложил палец к губам и кивнул назад. Я оглянулся и увидел за своей спиной Завена, Корюна и Арсена.
— Все листовки розданы, — доложил вполголоса Арсен. — Ребята читают, и вроде бы до них доходит…
Цолак вошел в казарму, и мы за ним. Пристроившись в уголке, стали рассказывать ему, как воспринимают солдаты содержание листовки. Цолак довольно кивает, внимательно слушает и порой что-то записывает в блокнотик.
Ему, как он сказал, тоже надо «обо всем доложить в комитете».
…Я уже говорил, что, кроме ребят, сплотившихся вокруг Цолака, в нашей музкоманде были разные люди. Одни догадывались о деятельности Цолака, но явно сторонились его; другие были настолько ко всему безразличны, что и действительно ни о чем не догадывались.
Но был среди нас один человек, от которого мы всеми средствами скрывали наши новые настроения. Это — Дьячок, Киракос, тот самый, что и попал к нам окольными путями, и мог тайком от всех съесть полученные из дому лаваш и каурму, и, наконец, был доносчиком. Ведь это он донес Цолаку (пусть ему, но ведь донес же!) о намерении ребят избить его. И все это было не случайным — такой уж Киракос человек, и потому мы сторонились его.
Мы, например, давно заметили, что его не только не возмущает воровство в полку, но он даже с восхищением говорит о воришках, называет их ловкачами. Еще до объявления войны он как-то сказал:
«Ребята, а этот Матевосян, видно, парень ловкий: скачущего коня раскует — хозяин не заметит… Вот бы найти с ним общий язык…»
Тогда ребята его чуть не избили за эти слова. С тех пор он все больше помалкивал, но это не значило, что он отказался от своих помыслов.
Его частенько видели на складе полка, с интендантами и, наконец, с Матевосяном. Всем было ясно, что он не теряет надежды осуществить свое намерение и «найти общий язык» с «ловким парнем»…
Ребята несколько раз всерьез обсуждали, как им быть с Дьячком. Он явно был из числа таких любителей, о которых у нас в народе есть поговорка: «Ест серединку, а ходит по краю».
Необходимо было что-то предпринять…
Арсен, который признавал только единственный метод воспитания — собственный кулак, предложил как следует отдубасить Дьячка, но Цолак не считал, что это поможет.
Он посоветовал повременить с действиями, а пока что всячески остерегаться его и не сболтнуть при нем лишнего.
И представьте, не такое уж это было легкое дело — избежать его любопытства… Киракос знал, например, что Арсен, прихватив меня, ушел из казармы с твердым намерением избить Цолака, а вернулись мы вместе с Цолаком наилучшими друзьями. Конечно, Киракос с трудом, но все же мог подумать и такое, что Арсен просто получил трепку и сдался… Но, в таком случае, почему тогда Цолак отказался от должности старшины? Все эти свои сомнения Киракос высказывал ребятам, но вопросы оставались без ответа. Музыканты предпочитали с ним не общаться. Ему казалось подозрительным и то, что ребята помогают моей матери, что Цолак часто навещает свою тетушку…
Был как-то такой случай. Я находился в казарме один. Вошел Киракос. Увидев меня, он стал спрашивать о здоровье моей мамы, об отце и еще о многом. Я отвечал ему нехотя и хотел уже выйти, как он вдруг ухватил меня за рукав:
— Ну куда ты удираешь, посиди, поговорим немного…
— О чем говорить-то?
— Мало ли о чем… Ну, к примеру, о том, почему вы сторонитесь меня, всё чего-то шушукаетесь…
Я ужасно обозлился и наконец сказал:
— Хочешь знать, почему тебя сторонятся?