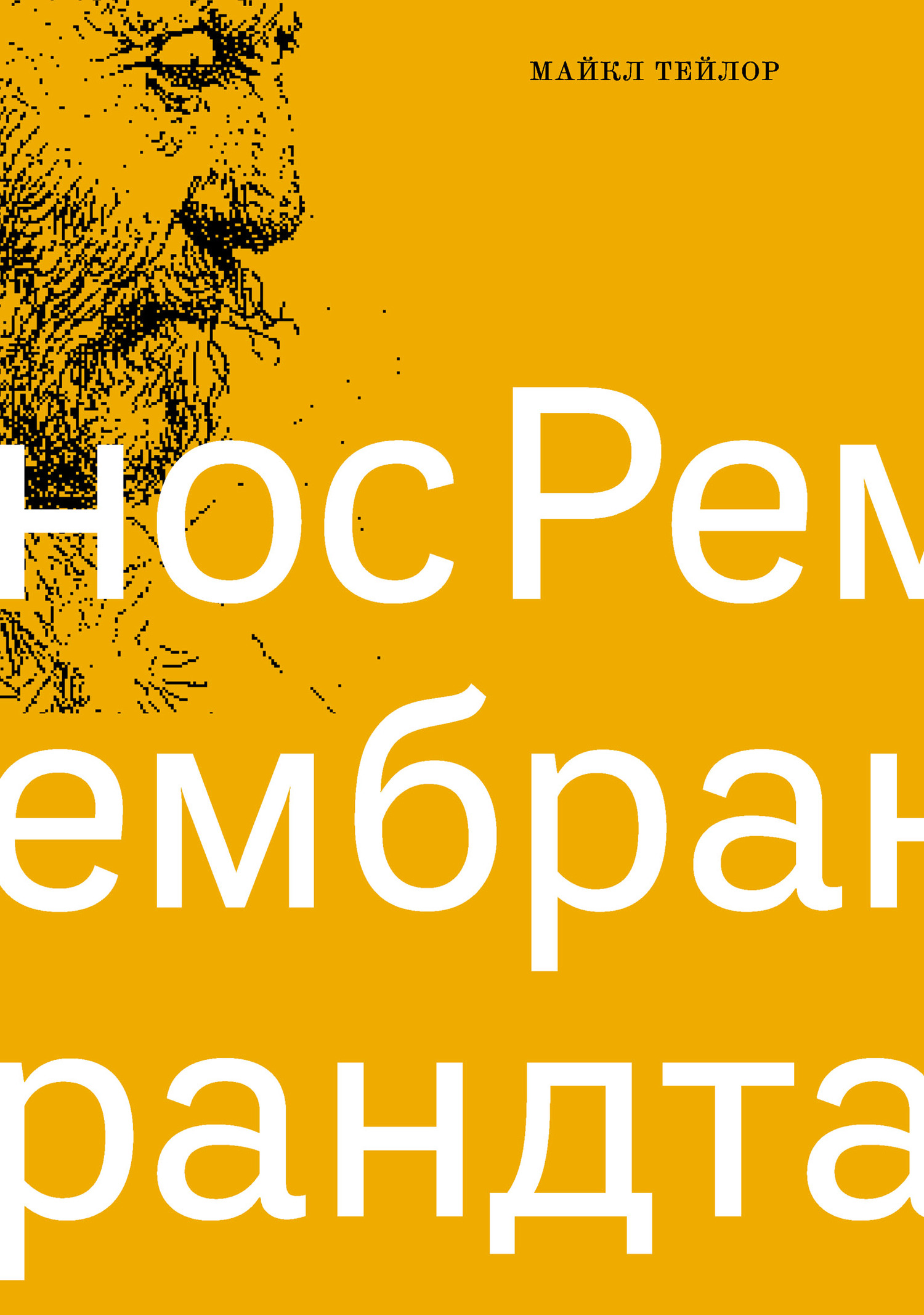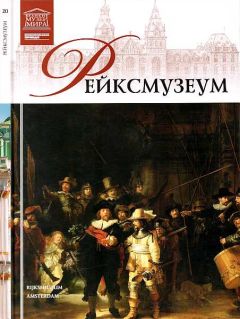света, – узкокостный, утонченный молодой патриций, в облике которого удачно сочетаются изысканность и небрежность. В молодом Сиксе есть что-то птичье, особенно из-за острого подбородка и похожего на клюв носа. Видно, что он из тех, кто не упустит ни единой мелочи.
Проходит несколько лет. Рембрандту уже сорок восемь, Сиксу – тридцать шесть. Оба в расцвете сил и настолько уверены в себе, что портрет воспринимается зарисовкой, созданной в порыве вдохновения, хотя это, разумеется, не так: несмотря на всю свободу мазка, он проработан столь же скрупулезно, как портрет Марии Трип (илл. 29). Кажется, что Сикс не позирует художнику, долго оставаясь неподвижным, а напротив, выглядит так, будто только что встал с места и вот-вот уйдет. Кисть Рембрандта схватила его в тот момент, когда он натягивал левую перчатку; небрежно наброшенный на плечо плащ дает художнику отличный повод оживить правую часть полотна каскадом алых и темных вертикальных полос и сумасшедшей лестницей горизонтальных желтых мазков, которые больше напоминают работу китайского каллиграфа, а не западного живописца, жившего задолго до Моне. Комбинация цветов поражает: глубокий черно-коричневый фон, сизый камзол, белая пена кружевных манжет на фоне кожи руки и охристой перчатки, золотые полоски, оттеняющие сочный красный плащ; но еще больше поражает ощущение, что эти цвета были наложены с какой-то дерзкой безоглядностью. Некоторые мазки выглядят так, словно кисть художника небрежно касалась холста, но легли они безупречно. Нижние две трети портрета написаны так смело и порывисто, словно Рембрандт боялся, что Сикс вот-вот закроет за собой дверь и решительным шагом выйдет на улицу. Напротив, лицо его написано взвешенно, с вниманием к деталям. Вид у него одновременно задумчивый и раздраженный. Обращенный в себя взгляд и чуть-чуть нахмуренные брови противоречат намеку на напряжение вокруг рта и слегка сжатые губы – такое выражение лица бывает у политиков или директоров компаний, когда им задают неудобные вопросы. Это тот редкий для Рембрандта случай, когда тень не закрывает часть лица: Сикс стоит, развернувшись под углом к зрителю, прямо против света, слегка склонив голову, словно обдумывает то, что хочет сказать. Это уже не стройный, слегка фатоватый ученый джентльмен 1647 года, теперь его лицо выглядит упитаннее, квадратнее, черты сгладились (для Рембрандта, у которого черты лиц на мужских портретах обычно острые, это отступление от правил), вид озабоченный, но непреклонный. А какой нос! Внизу шириной почти как рот и, судя по глубокой тени на верхней губе, решительно выдвинутый вперед – длинный, прямой, похожий на пирамиду. Он напоминает какое-то оборонительное сооружение, бастион или гласис. Это самый мужской из носов, когда-либо написанных Рембрандтом, что особенно поразительно, если принять во внимание женственно-разочарованный взгляд усталых глаз Сикса, а также первые признаки дряблости его щек и подбородка. В этом носе есть нечто незыблемое, монументальное. Он – точка успокоения всех сил, действующих на портрете, чья модель, казалось бы, передала свое нетерпение кисти художника.
Так что же Сикс хотел сказать Рембрандту? Связано ли это с долгом, из которого Рембрандт не вернул ему ни единого гульдена, а сам продолжал безудержно тратиться, покупая всевозможные редкости и произведения искусства для своей коллекции, рискуя остаться без крыши над головой, поскольку его финансовое положение неуклонно ухудшалось? Предвидит ли Сикс надвигающуюся на его приятеля катастрофу, которую тот упорно не замечает? Или Сикс хочет предостеречь его от греховного сожительства со своей, теперь уже явно беременной, служанкой Хендрикье? Но скорее всего он так ничего и не скажет: Рембрандт твердолобый, доводы на него не действуют. Сикс просто натянет правую перчатку, распорядится доставить портрет к нему домой и выйдет на неяркий, умноженный бликами свет Амстердама, где его ждет большое будущее. В студию он больше не вернется [27].
Пухлые груди, тугая кожа и профиль, от которого хочется плакать
На этот раз он выбрал формат более квадратный и крупный, чем для портрета Яна Сикса, снова сместил модель в правую часть композиции и посадил ее вполоборота к зрителю под ливень света, падающего из левого верхнего угла. Однако модель этой картины, написанной, возможно, через несколько недель после портрета Яна Сикса, была никем с точки зрения амстердамского высшего общества. Просто некая Хендрикье, дочь сержанта. Она стала служанкой в доме Рембрандта несколькими годами ранее и со временем заняла в его постели место домоправительницы Гертье, которой пришлось уйти. И вот перед нами Хендрикье, абсолютно нагая и, судя по широкой талии и набухшим грудям, на ранних месяцах своей первой беременности (илл. 38).
Для того времени, то есть для протестантского Амстердама середины XVII века, эта вещь была вызывающей. (Гари Шварц считает, что, возможно, из-за нее реформатская церковь и была так сурова с Хендрикье.) Мы видим хорошенькую молодую женщину, объект желания, изображенный чувственно и способный возбудить даже камень (трудно вообразить себе детали более волнующие, чем красная лента, которая касается груди, или контраст между белыми бедрами и густой коричневатой тенью на левой ноге), но эротизм этой картины трагичен. На ней Вирсавию готовят к ночи с царем Давидом. Старуха, которая моет ей ноги, – распространенная фигура в живописи XVII века: эта морщинистая сводня посредничает в деле удовлетворения похоти и служит напоминанием о том, как время разрушает плоть (то есть можно сказать, что она одновременно и устанавливает цену на плоть, и сбивает ее). В руке у Вирсавии – приглашение во дворец, которое ей доставила старуха, и это – не то приглашение, которым можно пренебречь. В ту минуту, когда царь Давид увидел, как Вирсавия купалась, ее тело перестало принадлежать ей (и еще в большей степени – ее мужу), а царское «приглашение» – всего лишь подтверждение этого факта. Словно для того, чтобы подчеркнуть мысль, что грубое вожделение – уже своего рода обладание, Рембрандт соединил в картине два эпизода драмы Вирсавии: вспыхнувшее желание царя Давида и превращение Вирсавии в его наложницу. Более того, в отличие от большинства подобных картин Рембрандта, на которых женщины без одежды выглядят не лучшим образом, эта обнаженная «Вирсавия с письмом царя Давида», как и «Купающаяся Хендрикье» из Лондонской национальной галереи, несмотря на свою полноту, необыкновенно привлекательна [28].
Но повествовательная подоплека «Вирсавии» не имеет большого значения. Картина не утратила бы эмоционального воздействия и мало потеряла бы в содержательности, если бы мы не знали связанных с ней стихов из Второй книги Царств. Ведь профиль модели, и особенно линия, идущая от основания ее носа до верхней границы нежного выпуклого лба, говорит нам о печали и чувственности молодой женщины, чья красота