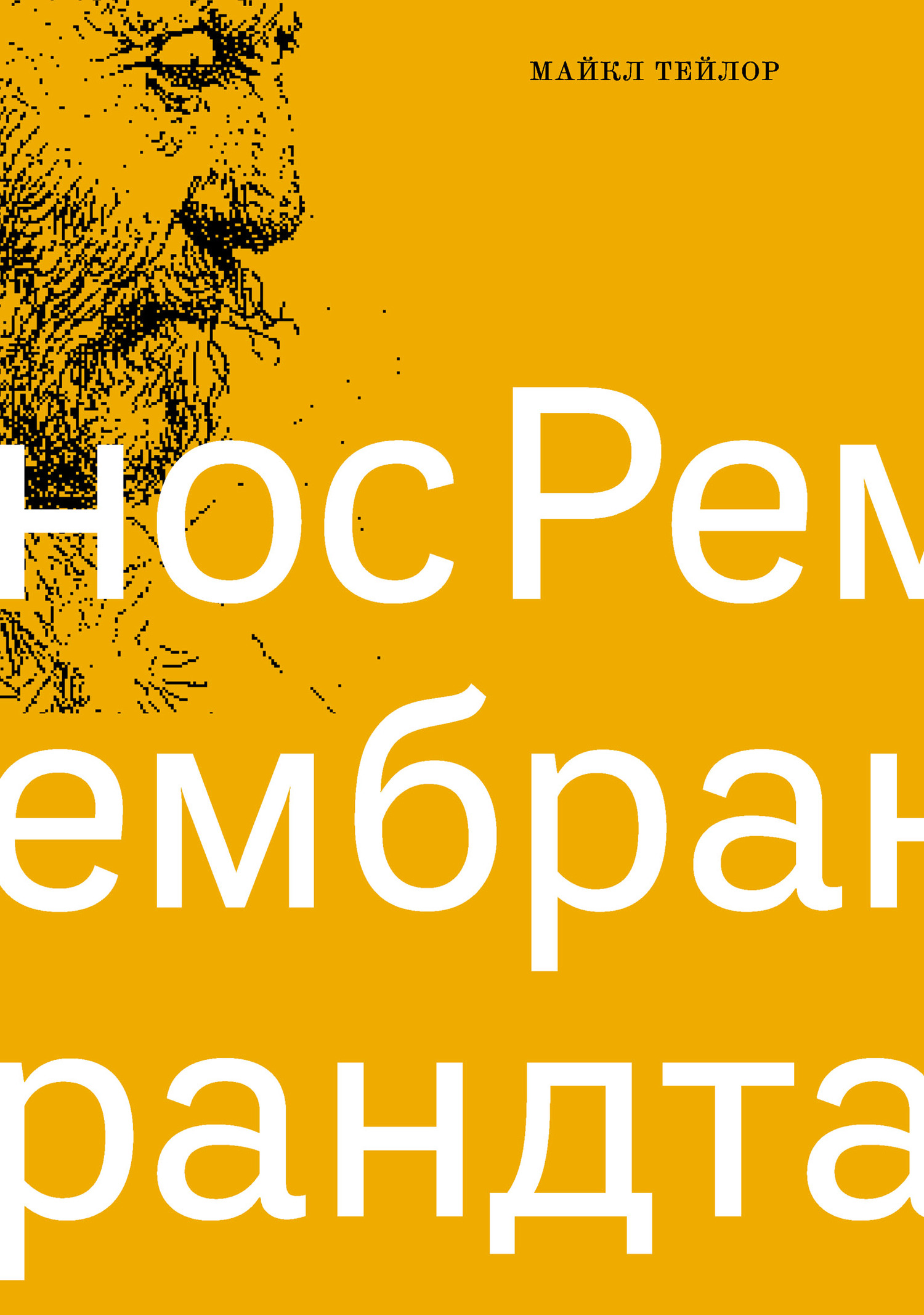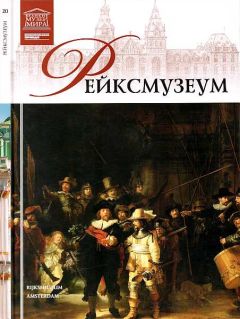старик и высокая темная фигура; оба погружены в полутьму, откуда их выхватывает неверный свет коптящей свечи или фонаря. Коричневатый, словно пропущенный через толстый слой шеллака, этот свет падает на многослойную сумятицу мазков. Если стоять очень близко к картине, кажется, что смотришь на бурлящую магму. Стоит отступить назад, и огненная масса красок превращается в колпак (возможно, тот же самый, что и на двух предыдущих автопортретах, но теперь похожий на раскатанное тесто), стекающий с плеча шарф, лицо, набросанное стремительными мазками вокруг очень большого, острого, выдающегося вперед носа. Сарказм картины состоит в том, что массивный нос доминирует в обоих лицах, и художника, и его модели, будь это заказчик, вдохновитель или объект насмешки. Они – парные фигуры, два клоуна в одном фарсе.
45. Автопортрет. 1669
Холст, масло
Национальная галерея, Лондон
Но ни тени насмешки нет во втором автопортрете, находящемся в лондонской Национальной галерее, который говорит нам о том, от чего художнику не избавиться и чего он лишился (илл. 45). Поза напоминает об «Автопортрете в возрасте тридцати четырех лет», который хранится там же и был написан, когда Рембрандт находился на вершине карьеры, до смерти Саскии, денежных проблем, скандалов. Но вместо чернильных, с бархатными полосами, рукавов и золотой цепи, охватывающей нижнюю часть широкого берета, на Рембрандте облегающая голову шапка и простой до неказистости кафтан. Если бы не край белого колпака (его старого фетиша), выглядывающий из-под скуфейки, мы бы не догадались, что человек, представший перед нами в таком непритязательном, будничном виде, – знаменитый живописец или живописец вообще. Рентгеновский анализ портрета показал, что Рембрандт сперва написал себя с мольбертом и кистями и только потом решил изобразить руки сжатыми в подобии молитвенного жеста, – а может быть, он просто греет пальцы [38]. Не знай мы, кто это, мы бы подумали, что перед нами старый лавочник или – почему бы и нет? – ушедший на покой мельник. Великий Рембрандт вернулся к домашней одежде тяжело работавших людей, среди которых он вырос, и, может быть, наконец принял ее как свою. Возможно, ему вспоминался шум камыша на заболоченных местах у городской стены перед его родительским домом в Лейдене или шепот весенних ветерков, звучащих в гласных его родового имени – ван Рейн, родом с Рейна, – которым он не подписывал свои работы более сорока лет.
Цвет одежды на портрете так хорошо сочетается с грязноватыми тенями и плоским, цвета почвы задним планом картины, что невозможно понять, где одно переходит в другое. Все здесь коричневое, цвета свежевспаханного поля под октябрьской моросью. Эта работа мрачная во всех смыслах. Четко видно только лицо художника, но даже на нем лежат терракотовые тени, словно оно из какого-то древнего вещества, которое оживил свет. Глаза маленькие, темные, непроницаемые, спрятанные в складки грубой, обвисшей кожи. Они уже всё видели и ничего не ждут, они пристально смотрят на тщету земную. Возможно, нам несколько неуютно под их взглядом. В любом случае первым в памяти всплывает не он, а тяжелый, распухший нос со знакомым маячком – белым бликом на кончике. Разве мы могли забыть его? Этот нос устремлен к нам из самой середины лица, навечно привлекая внимание к себе и к той краске, из которой он вылеплен.
Для коллежского асессора Ковалева потерять нос было всё равно что потерять ранг и место в жизни. Судьба Рембрандта противоположна судьбе майора Ковалева: в некотором смысле он потерял в жизни всё, кроме носа.
Хрипловатое дыхание старика, легкое дыхание ребенка
Рембрандт умер 4 октября 1669 года и был похоронен без особых церемоний четырьмя днями позже в арендованной на время могиле рядом с Хендрикье Стоффельс в церкви Вестеркерк. Перед тем как его тело было предано земле, в его дом пришел нотариус, некий Стейман, который составил опись имущества. В список попали весьма немногочисленные пожитки: четыре простых деревянных стула, несколько блюд и подсвечников, две пары зеленых кружевных занавесок. И конечно, художественные принадлежности: мольберт, палитры и засохшие кисти, баночки с красками, пара бутылок олифы, камень для измельчения красок. По комнатам были разбросаны и более ценные вещи: детали доспехов, «редкости и древности», большое количество рисунков и гравюр и тринадцать картин, которые, по мнению нотариуса, остались «незаконченными». (Всё это теперь считалось собственностью единственной законной наследницы Рембрандта, едва достигшей полугода Титии ван Рейн, дочери Титуса.) Покончив с описью, нотариус запер мастерскую Рембрандта и две задних комнаты в доме, где он провел последние годы, и опечатал их, чтобы оградить от жадности кредиторов и излишнего интереса родственников.
На двух из оставшихся после смерти Рембрандта картин изображен бородатый старик, сжимающий в объятиях сына. После того как их вынесли наружу с разрешения опекуна Титии, некто неизвестный, возможно бывший ученик Рембрандта, дорисовал на них новые фигуры, чтобы их легче было продать. Так что от нас потребуется некоторое усилие воображения, чтобы представить себе, какими эти картины вышли из-под кисти Рембрандта: два темных, больших, довольно сумрачных прямоугольных полотна, на которых свет из неясного источника падает на относительно небольшой участок, что создает атмосферу удивительной камерности и душевности. Седобородый старик и младенец находятся левее вертикальной оси симметрии картин, как будто холсты немного обрезали при заключении в рамы. Обе работы служат примером «широкого» или «грубого» стиля, в котором Рембрандт писал в последние годы жизни; поверхность меньшего, более позднего полотна (если считать, что именно его видел художник Алларт ван Эвердинген, навестивший мастера за две недели до смерти) выглядит странно зернистой. Можно подумать, что краску разбрызгивали по полотну, как сильный ветер разбрызгивает дождевые капли.

46. Возвращение блудного сына Около 1667
Холст, масло
Государственный Эрмитаж, Санкт Петербург
Темы обеих картин – традиционные, связанные с Евангелием от Луки, породившие бессчетные произведения голландского искусства. Рембрандт уже разрабатывал их, и по понятным причинам они имели для него особое значение. На большем по размеру полотне, хранящемся в Эрмитаже, изображена центральная сцена из притчи о блудном сыне (илл. 46). Тридцать лет назад Рембрандт уже сделал гравюру, на которой отец на ступенях своего дома обнимает сына, лохматого, истощенного и измученного. И себя он тоже как-то изобразил в образе модника и гуляки с куртизанкой на коленях (возможно, ее моделью послужила Саския); на той картине он поднимает удивительно высокий бокал, чтобы выпить за тщеславие молодости, чувственную любовь и безудержные траты. Но здесь мы видим блудного сына в лохмотьях и с головой, обритой так,