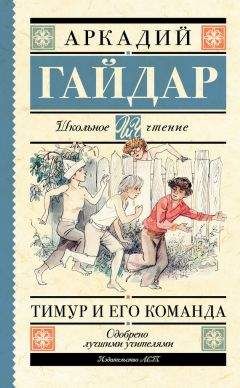заехали куда-то перекусить — еда оказалась не главным. Был другой голод. Он сжигал вены, его нужно было утолить, потому, только ввалившись в дом, мы набросились друг на друга, словно сто лет не виделись. Тимур терзал моё тело, целовал, входил, дарил оргазмы, давал немного отдохнуть и снова набрасывался, словно голодный зверь.
Ещё никогда Тимур не был таким страстным, таким отчаянным и диким, и я ловила его настроение, подстраивалась под ритм, отдавала всю себя и брала всё, что готов был мне предложить.
Язык тела сказал намного больше слов. И поверила: я действительно настоящее и будущее.
Я уснула измождённая, искромсанная страстью Тимура, но безумно счастливая. Но с рассветом в дом ворвалось не только солнце, но и настойчивый звонок мобильного.
Тимур встрепенулся, пробурчал что-то неразборчивое, нащупывая мобильный, лежащий на столике рядом с кроватью, а, посмотрев на экран, протянул мне телефон.
Я схватила мобильный, растирая одной рукой заспанные глаза, взглядываясь в экран, а адреналин пробежал взрывной волной, подступил комом к горлу.
— Отец, — проговорила, глядя на Тимура. Приняла звонок, откашлялась и тихо в трубку: — Папа?
— Элла, я… вы в доме?
— Да.
— Откроете?
Во мне сейчас слишком много эмоций и ощущений: радость, обида, протест и очень много страха. И хочется верить, что отец пришёл с добром, только лучше не придумывать себе лишнего, чтобы потом не разочароваться.
Надеваю то самое платье с Микки Маусом, чем вызываю короткий смешок, слетающий с губ Тимура. Он не нервничает, кажется абсолютно спокойным, только глаза цепко следят за мной.
— Я сама открою, хорошо? И вообще… поговорю с ним, хорошо? Вдруг опять драться полезет.
— Уже не полезет, перегорел, — Тимур подходит ко мне близко, расчёсывает пальцами спутанные волосы, и его энергия перетекает меня, словно кто-то портал открыл.
— Ромашка, я буду поблизости.
Он целует меня, и на мгновение весь мир перестаёт существовать, а все тревоги отступают. Рядом с Тимуром становлюсь сильнее, увереннее, спокойнее.
Тимур отпускает меня, отходит, чтобы натянуть серую домашнюю майку, а на языке ещё хранится вкус поцелуя, и я довольно жмурюсь и выхожу из комнаты.
Иду вниз. Ступенька за ступенькой, всё ниже и ниже спускаюсь, пока не оказываюсь у входной двери, но перед ней останавливаюсь. Хватаюсь за ручку, закрываю глаза, набираю полную грудь воздуха и шумно выдыхаю через нос. И так несколько раз, пока пульс не замедляется.
Первые лучи солнца уже здорово припекают, и я щурюсь от яркого света, смотрю на небо, время оттягиваю. Неосознанно, но хочется папу помучить — сделать с ним тоже самое, что вытворил со мной, когда не пустил на порог своего кабинета.
Это было… обидно. Очень. Но я вдруг понимаю, что не хочу быть такой же упёртой, как отец, не хочу оставлять за спиной руины и обожжённые балки моста.
Уже у самих ворот я оборачиваюсь и замечаю Тимура. Он стоит за окном кухни, сложив руки на груди, и следит за мной. Его присутствие подбадривает, и я, улыбнувшись, распахиваю ворота.
Отец стоит прямой, словно палку проглотил, но какой-то непривычный. Растерянно осматриваю его с головы до ног, гляжу за спину, простреливаю взглядом улицу и понимаю, что именно меня смутило: нет машины. Отец почти никогда не ходит пешком — вечно куда-то торопится, гонится за чем-то, потому видеть его без верной железной повозки странно.
А ещё на нём светлые льняные брюки и обычная футболка. Ни тебе идеального костюма с острыми стрелками на брюках, ни запонок, ни извечной удавки галстука. Даже пахнет не одеколоном, а свежестью, будто это не мой строгий папа, а кто-то совсем другой.
— Пустишь? — усмехается отец, и пусть на губах улыбка, но в глазах лёд.
Я знаю этот взгляд: отец всегда за таким прячется, когда в жизни наступает тёмная полоса. Впервые увидела его глаза такими, когда умерла мама.
Отец тот ещё мастер в постройке бастионов, за которыми можно спрятаться от всех и каждого. Даже от меня.
Я взмахиваю рукой, очерчиваю периметр двора и отхожу в сторону, давая отцу проход. Вопросы вертятся на языке, но я не тороплюсь открывать рот и задавать их — для начала хочу понять, зачем он здесь, с добром ли пришёл. Но один из них — самый безопасный — всё-таки вырывается на волю:
— Ты пешком сюда пришёл, что ли?
— Прогулка на свежем воздухе активизирует мыслительные процессы. Мне нужно было подумать.
— Ты зануда, — не могу сдержать улыбку, а отец разводит руками, мол, вот такой я. — Пойдём в беседку.
Не дождавшись его ответа, поворачиваюсь и ухожу вперёд, зная, что он обязательно отправится следом. Впрочем, он сам приехал, его никто не умолял о встрече и в ногах не валялся, слёз не лил, потому папе придётся немножко придушить гордость.
— У меня сейчас затылок задымится, — говорит отец, переступая порог беседки и взмахивает рукой назад. — Твой ненаглядный во мне дыру своим взглядом прожжёт.
Я смотрю за спину отцу, а Тимур направляется в нашу сторону. Идёт медленно, заложив руки в карманы, никуда не торопится, но я чувствую, как сильно напряжены налитые мышцы, перекатывающиеся под кожей.
Качаю головой, Тимур останавливается, а во взгляде немые вопросы. Да, Тимур, я сама справлюсь, мне это необходимо. И Каиров отходит в сторону, скрывается в тени деревьев, но я всё равно чувствую на себе его взгляд, его поддержку.
Присаживаюсь на лавочку напротив отца, перед этим смахнув пару сухих листочков, складываю руки на коленках и смотрю на отца широко открытыми глазами. Он молчит, ждёт чего-то, а меня начинает тяготить эта тишина.
— Папа, зачем ты приехал?
— Нельзя было?
Отец устраивается удобнее, закидывает ногу на ногу, обхватывает колено ладонями и смотрит на меня внимательно, чуть склонив набок голову. Он всё ещё очень красивый, а годы сделали его мужественнее. Для меня он всегда был самым лучшим, самым любимым и близким человеком, хотя его тотальная занятость и излишняя властность добавляли сложностей.
Но так трудно, как сейчас, не было никогда. И мне бы устыдиться, что так расстроила родителя своими отношениями с Тимуром, но не получается — я счастлива, как никогда раньше.
— Элла, дочка, — тяжело вздыхает, когда я так и не отвечаю на его вопрос. — Ты же знаешь, что дороже тебя у меня никого нет?
Я ковыряю ногтем большого пальца угол деревянной столешницы. Руки немного дрожат,