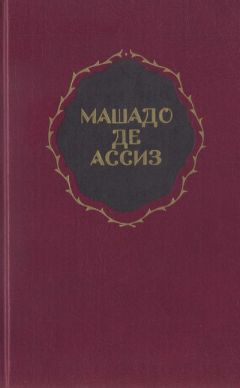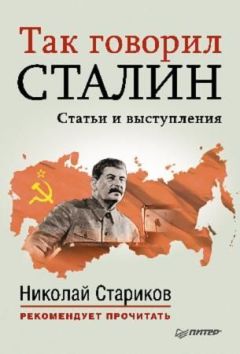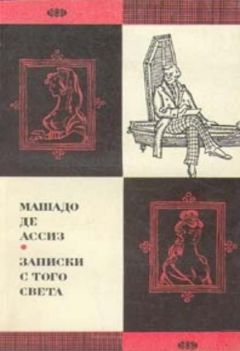Глава СLIII
ПСИХИАТР
Я почувствовал, что впадаю в патетику, и решил лечь спать. Во сне мне привиделось, что я стал набобом. Проснувшись, я подумал: а хорошо бы сделаться им и в самом деле... Я люблю иногда мысленно перенестись па другой конец света и воображать себя в иной стране и даже в иной вере. Как раз недавно я размышлял о том, в результате каких социальных, религиозных и политических потрясений архиепископ Кентерберийский мог бы стать сборщиком налогов в Петрополисе[72], и производил сложные расчеты, дабы определить: сборщик вытеснит архиепископа или архиепископ устранит сборщика, и какая доля архиепископа уместится в сборщике или, быть может, последний целиком сольется с архиепископом, и так далее. Размышления вроде бы праздные и нелепые, но в действительности подобные явления имеют место; делают же из одного архиепископа — двух: одного согласно папской булле, а второго — по желанию правительства Итак, решено, я сделаюсь набобом.[73]
Все это, разумеется, просто шутка, но когда я поделился своими размышлениями с Кинкасом Борбой, он посмотрел на меня подозрительно и даже с каким-то состраданием, после чего, по доброте душевной, принялся уверять меня, что я сошел с ума. Поначалу я было расхохотался; но благородная убежденность моего философа испугала меня. Единственно, что я мог возразить в ответ на его уверения, это то, что я не чувствую себя сумасшедшим, но поскольку все сумасшедшие говорят о себе точно так же, то подобное возражение не имело смысла. Вот и верь после этого, что философы ничего не замечают. На следующий день Кинкас Борба прислал мне врача-психиатра. Я был с ним знаком, и его появление меня испугало. Однако он вел себя так деликатно и тактично и прощался со мной в таком явно веселом расположении духа, что я осмелился спросить его, действительно ли он убежден в моей нормальности.
— Ну, разумеется,— отвечал он, улыбаясь,— редко у кого рассудок бывает в столь отменном порядке, как у вас, сеньор.
— Значит, Кинкас Борба ошибся?
— Безусловно. А вот что касается его самого... Если вы ему друг, постарайтесь как-то отвлечь его... он...
— О, господи! Вы так думаете? Может ли это быть? Человек столь незаурядный, философ!
— Это не имеет значения. Безумие вхоже в любой дом.
Можете вообразить мое огорчение. Психиатр, видя, как подействовали на меня его слова, и убедившись, что я в самом деле друг Кинкасу, постарался смягчить впечатление. Он стал уверять меня, что ничего страшного в этом нет, что крупица безумия не только не причиняет вреда, но, напротив, придает вкус жизни. Поскольку я никак не хотел с этим согласиться, врач, усмехнувшись, заговорил со мной о вещах столь необычных и странных, что я должен отвести им отдельную главу.
Глава CLIV
КОРАБЛИ В ПИРЕЕ
— Вспомните-ка,— начал психиатр,— историю о знаменитом афинском сумасшедшем, который вообразил, что все корабли, заходящие в Пирей, принадлежат ему.
Сам он был жалким нищим, и, вероятно, даже Диогеновой бочки у него не было для ночлега, но зато корабли стоили золота всей Эллады. Так вот, в каждом из нас живет такой афинский безумец; и тот, кто поклянется, что ни разу в жизни не владел воображаемыми кораблями, ну, по крайней мере, хоть двумя-тремя, поверьте мне, солжет.
— И даже вы, сеньор? — изумился я.
— Даже я.
— И я тоже?
— И вы тоже; и ваш слуга, если вон тот человек, что вытряхивает в окно ковры, ваш слуга.
Действительно, один из моих слуг выбивал переброшенные через подоконник ковры, пока мы с врачом беседовали в глубине сада. Врач обратил мое внимание на то, что слуга давно уже распахнул настежь все окна, поднял шторы так, чтобы вся богато обставленная гостиная была доступна для обозрения.
— Вот видите,— сказал психиатр,— и у вашего слуги та же мания: он тоже думает, что корабли принадлежат ему, это час его безумия, и оно дарит ему высшую радость на земле.
Глава CLV
СЕРДЕЧНАЯ ЗАБОТА
Если врач прав, рассуждал я сам с собой, то Кинкаса Борбу не стоит уж очень жалеть; немного больше безумия или немного меньше — какая разница? Но все же я должен заботиться о нем и следить, чтобы его и без того больной мозг не вбирал в себя бредовые идеи со всех концов света.
Глава CLVI
ГОРДОСТЬ РАБА
Кинкас Борба не согласился, однако, с мнением психиатра насчет моего слуги.
— Приписать ему манию этого безумного афинянина можно разве только ради образного сравнения, но ведь образ не равен логическому определению, основанному на результатах наблюдения. На деле же чувство, испытываемое твоим слугой, благородно и отлично согласуется с законами гуманитизма: я бы назвал его гордостью раба. Он хочет показать, что служит не у какого-то там...
Кинкас Борба привел также мне в пример кучеров из богатого дома — они кичатся хозяйскими лошадьми больше самого хозяина; или слуги в отелях — мера их подобострастия прямо пропорциональна общественному положению клиента. И в заключение Кинкас Борба заявил, что все проявления этого благородного и деликатного чувства суть непреложное доказательство того, что человек, даже если он всего-навсего чистильщик сапог,— всегда прекрасен.
Глава CLVII
БЛЕСТЯЩИЙ ПЕРИОД
— Ты сам — прекрасный человек,— не выдержал я, заключая его в свои объятья.
Невозможно было поверить, что такого необыкновенного человека коснулось безумие. Я так ему и сказал, поведав о подозрениях психиатра. Мои слова, видимо, не на шутку испугали Кинкаса: дрожь пробежала по его телу и он сильно побледнел.
Примерно в это же время я снова помирился с Котрином, причем мы оба предпочли не выяснять причин нашей с ним размолвки. Примирение это было весьма кстати для меня, ибо я страдал от одиночества, а моя бездеятельная, праздная жизнь наполняла меня ощущением безмерной усталости. Вскоре после нашего примирения Котрин предложил мне вступить в орден терциариев[74]. Я обратился за советом к Кинкасу Борбе.
— Ну что ж, если хочешь, можешь вступить на время. Я как раз сейчас пишу главу о догматах и обрядах. Гуманитизм должен стать религией будущего, религией единственно истинной. Христианство годится для женщин и нищих, да и другие религии стоят не больше: все они покоятся на слабости и невежестве.
Христианский рай не лучше мусульманского, а что касается буддистской нирваны, то это вообще мечта паралитиков. Но ты увидишь, что такое гуманитическая религия. Завершающее поглощение, сокращательная фаза, восстановление первоначальной субстанции, а не разрушение ее, и так далее. Ты можешь вступить в этот орден, но не забывай, однако, что ты мой верный халиф.
Мои желания были теперь достаточно скромны; я вступил в орден, честно выполнял свои обязанности и могу сказать, что эта фаза была самой блестящей фазой моей жизни. Тем не менее я не стану ничего рассказывать ни о моей помощи беднякам, ни о моей работе в больнице, ни о наградах, полученных мною за добрые дела, решительно ничего.
Возможно, для общественной экономики были бы небесполезны мои соображения по поводу того, что все награды в мире не могут сравниться с тем непосредственным чувством внутреннего удовлетворения, которое испытывает человек, принося пользу другим людям. Но я поклялся хранить молчание и не собираюсь нарушать свою клятву. Кроме того, подобные чувства с трудом поддаются анализу, да и начав говорить об одном из них, придется затем сказать и о других,— глядишь, и целая глава ушла на психологические экскурсы. Посему я лишь повторяю, что это был самый блестящий период моей жизни. Проходившие передо мной картины были печальны: печальнооднообразными делало их несчастье,— оно ведь так же утомительно, как и беспрерывное наслаждение, и, пожалуй, даже еще утомительней. Но радость, даруемая неимущим и страждущим, была ценным вознаграждением, и не только для тех, кому оказывалось благодеяние. Нет, радость эта была наградой и для меня — наградой столь дорогой и великой, что она даже сумела внушить мне почтение к моей собственной особе.
Глава CLVIII
ДВЕ ВСТРЕЧИ
Однако по прошествии трех или четырех лет все это мне надоело, и я вышел из ордена; на прощанье я пожертвовал крупную сумму, и мой портрет пополнил галерею выдающихся его деятелей. Но прежде чем закончить эту главу, я хочу сказать вам, что в больнице ордена я застал на смертном одре — кого бы вы думали?..— прекрасную Марселу. И увидел я ее в тот же самый день, когда в одном из домов, густо заселенных беднотой, куда я зашел с благотворительными целями, я встретил... Теперь уж вы и вовсе не угадаете... Я встретил цветок зарослей, Эужению, дочь доны Эузебии и Виласы,— Эужению, хромую, как и прежде, но куда больше прежнего печальную.