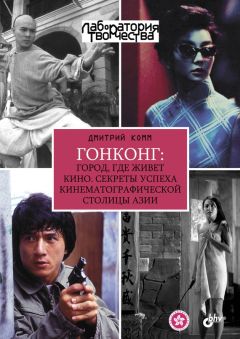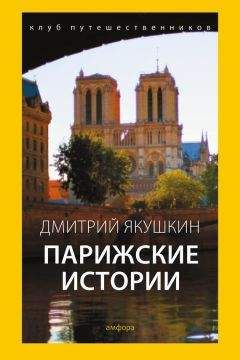знать, но после тридцати кому охота обременять себя лишним? Все уже в домике, в насиженном Теремке, а Стас Кузнецов свой теремок спалил, подорвал, махнул, не глядя, через речку Смородину, выбил у себя из-под ног табуретку.
Поэтому он «дебил», маргинал, отшельник, Емеля-на-печи и Георгий Победоносец.
Всю жизнь был никем, а сделал всех. Не выезжая из Иванова (а ведь та еще дыра!), взобрался выше, чем на пятитысячник Эльбруса, – туда, где с дыханием уже проблемы: воздух слишком чистый – непозволительно.
Талант – это градус, а не подслащенная водичка. «Он был добрый и опасный», – вспоминает соседка, знавшая Стаса в его зрелые годы.
В своем одиночестве он жил как в темнице. Вне всякого подобия литературной среды.
И сейчас так живет.
– А друзья куда делись? – спрашиваю я.
– Так ведь дружба, – отвечает Стас, – ко многому обязывает. Вот и весь ответ. Одни собутыльники – какие друзья? Был такой-то, – называет фамилию. – Он в цирке работал – медведей кормил: кусок медведю, а кусок себе домой. Его менты избили, в ЛТП отправили, и он там умер. Другой рвотой захлебнулся – генерал пожарных войск.
– А были мысли поступать в Литературный институт? Отправить стихи в «Юность», «Новый мир»? Вы отправляли?
– Нет.
– Почему?
– Потому что я думал – не пройдут.
Он, видимо, дико стеснялся своего таланта, считал себя из‐за него «гадким утенком», вернее его вынудили, приучили так считать, хотя сами разгуливали отнюдь не с белыми крылышками, а он был эмоциональный, уязвимый, горячий человек, наделенный редчайшей чувствительностью к слову, к языку. Стас и сейчас признается: «Я легковнушаемый. Мне нельзя телевизор смотреть – страшно делается».
Он перечитывает «Евгения Онегина». На второй стороне обложки карандашом написано: «Прости, Пушкин».
– А что в «Онегине» вас привлекает?
– Я искал место «Им овладело беспокойство, / охота к перемене мест…».
– Ну и как Пушкин?
– Все по-новому, в каждой строчке есть мысль, но глагольные рифмы – слишком простые. Возможно, это видимая легкость… Я теряюсь от ваших вопросов, вы меня смущаете. – Стас даже жмурится – настолько ему неловко и непривычно выступать в роли литературного эксперта.
Его же никто как поэта не воспринимал, и это стало травмой на всю жизнь. Все годы он вынужден был прятать свои способности в темном чулане, и только когда был пьяный, когда выходки начинались, в нем эта пружина разворачивалась по полной (вплоть до декламации стихов на улице), но опять же до безобразия искаженная пьянством.
Стихи «Мороз впивался в щеки жалом…» Кузнецов сочинил, когда кормил на ферме телят: вышел из коровника, увидел церковь, розовый закат над снежной равниной, и строчки сами к нему пришли.
– С ивановскими поэтами вы общались?
– Был такой Владимир Марфин – он вел вроде кружка, я туда ходил, и он мне помог опубликоваться в «Рабочем крае». Я не знаю ивановских поэтов. Майоров был, но он помер на войне. «Мы были высоки, русоволосы…» – цитирует Кузнецов самые известные майоровские строчки.
– Нравится Майоров?
– Да ничего мне не нравится. Мне нравится Диоген.
Отверженные, страдающие персонажи вызывают у Стаса гораздо большую симпатию, чем признанные кумиры, сумевшие разобраться с собой и наладить вменяемые отношения с окружающими.
Вы красивы, черт возьми,
Разве это так уж мало.
С вами хоть бы час возни
Провести под одеялом.
Вы прекрасно сложены,
Аппетитны непомерно,
Это счастие, наверно,
Знать вас в качестве жены.
Попытайтесь, милый друг,
Жить, как я, – легко и просто.
Я сменю в постели простынь,
Если вы решитесь вдруг.
Когда я спросил у Кузнецова о любимых поэтах, он без колебаний назвал Есенина и Рубцова. На просьбу процитировать что-то из них вспомнил есенинскую строчку про «сумасшедшую, бешеную, кровавую муть», а из Рубцова:
Мое слово верное прозвенит,
Стану я, наверное, знаменит.
Мне поставят памятник на селе.
Буду я и каменный – навеселе.
Отрицание любой косности, пусть даже благосклонной и прославляющей, – черта высоты, черта поэта.
Есть у Кузнецова и такое стихотворение:
Когда ты станешь знаменит,
Когда оденешься с иголки,
Забудешь свой бродяжий вид
И станешь холить эспаньолку.
Когда удачные холсты
Числом оценят многозначным,
Все ж оставайся холостым,
А не каким-то «новобрачным».
То, что поэт такого уровня прожил в Иванове до шестидесяти лет и никто им не поинтересовался, «спасибо» не сказал, даже не узнал в нем талантливого автора, кажется абсурдом, вопиющей несправедливостью, но на деле это самая обычная практика и так называемая голая правда, которую ежедневно приходится разгребать, если мы не хотим, чтоб она нас засосала.
2
Этим утром, как глаза откроешь,
Голубой рассвет прими с улыбкой,
А вчерашний вечер, он всего лишь
Был твоей очередной ошибкой.
Когда мне сообщили о смерти Кузнецова, одна из первых мыслей была: «Отмучился».
Последние три года – с 2014‐го по 2017-й – ничего связного он уже не писал (за редким исключением). Жилось ему туго.
– У меня все болит – и башка, и руки-ноги, – признавался Стас, понизив голос. – Врачи осматривали. Один говорит: «Как ты, дед, жив-то?»
На столе лежит книга «Инопланетяне над Россией».
– Вы верите в инопланетян? – удивился я.
– Врать не буду – я их не видел, но как-то ночью за окном катился огненный шар. Я орал благим матом – никто не слышал.
Вот и Кузнецова всю жизнь никто не слышал, хотя он «орал» и стихами, и поэмами (ни одной поэмы не сохранилось).
Уходя, я спросил у соседки насчет его здоровья:
– Ну как он вообще?
– Да вы не переживайте! Ничего ему не будет – он заспиртованный.
Поэт и – «народ»? «уважаемые россияне»?
Один из экземпляров своего поэтического сборника Кузнецов вынужден был обменять в аптеке на пузырек дешевого спирта: денег не было, чтобы расплатиться, – продавщица отпустила в обмен на книгу, попросила подписать.
– А у меня руки трясутся. Какая подпись? Ведь мне ни до чего…
Характерный эпизод из более ранних времен: Стас нетвердо идет по двору, а чуть впереди – молодая девушка.
– Красавица! – Он протягивает к ней руки. – «Возьми меня в мужья! Я пить не буду, я курить не буду! / А если что чего, так… я / Исполню твою всякую причуду!» – обещает он строчками собственного стихотворения.
Девушка – оборачиваясь, с хохляцким акцентом: