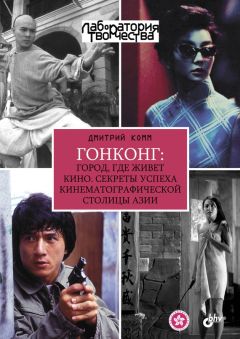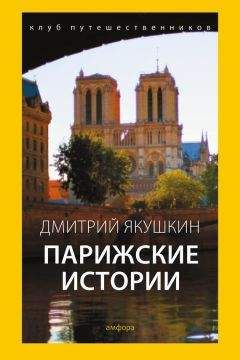class="p1">– Вы все так говорите, а сами потом только водку жрать! – Находчивая попалась.
Стас, вдохновленный, что ему ответили, пытается догнать, но ноги его не слушаются, и он выкрикивает вдогонку:
– «Меня несложно будет прокормить: / Тарелку щей пустых, кусочек хлеба…»
– И пол-литра еще! – добавляет девушка, скрываясь за поворотом. Это с интонацией: «Достали мужики!» – но встреча ее удивила и порадовала.
Ухватившись за дерево, Стас потрясает кулаком в адрес открытых и закрытых окон ближайшей пятиэтажки и начинает греметь грозное, обличительное стихотворение, бичующее культ личности. Оно тоже не сохранилось.
Сейчас Кузнецов похож на припертого к стенке протопопа Аввакума («Куда, куда, бездонный протопоп», – вспоминается Волохонский).
Нацепив на нос сломанные очки, поэт листает тетрадные записи, но, рассердившись на собственную неспособность в них разобраться, теряет терпение:
– Я сам не понимаю своих каракулей! Нужна стенографистка – вот с такой задницей, а я на ней женюсь. Как Достоевский.
– Он вам нравится? – спрашиваю я.
– Я его всего прочитал – и даже дневники.
– А что было первое?
– Не помню. Не из школьной программы. «Идиот», должно быть. Я Достоевского, как с молоком матери, впитал – настолько он мне близок. И круг его героев, которые путешествуют из романа в роман под разными фамилиями. Мы все – и даже лучшие из нас – по-своему монотонны. Вот Прилепин пишет, что я «своими словами говорю». А я ведь все свои слова и даже мысли позаимствовал – не то что украл, а услышал где-то, витали в воздухе. Я просто приметливый.
– Зато голос свой, интонация…
– Наверное, так. Я бы свои стихи узнал от других, – усмехается Кузнецов.
Я спросил у него:
– Как вы стали поэтом?
– Разве это кто-то знает? Так, видимо, на роду написано.
Сколько мы с ним ни виделись (а виделись мы не часто), я никак не мог соединить такой талант и такую бедственную участь. Что-то нескладное – не то что несправедливое, а паскудное, отталкивающее – мерещилось мне в этой странной судьбе. Стас словно оплачивал чужие счета и все никак не мог расплатиться.
Впрочем, как сказал один из читателей его книги:
– Он вроде ноет, ноет, а складно выходит! И хочется возвращаться к этим стихам, перечитывать их.
Сказал с благодарностью.
Не зря же все это…
Художник не выбирает.
В блокноте Кузнецова – среди прочего сора и пьяного бреда, отрывочных пометок («Если бы я написал вторую книгу, она бы называлась „Моя ностальгия“, „Спросила Фекла / у Софокла…“ или „У меня были красивые сны – красивые до тошноты“») – нашлось место и единственному относительно цельному стихотворению, которое Станислав сочинил летом 2016 года на 85-летний юбилей Валентины Михайловны, своей тещи, матери покойной жены Вали.
Пусть эти строчки старого «пирата», который всю жизнь провел «как под обстрелом» (его выражение), предпочитая вольную поэтическую Тортугу казенной обыденщине, заканчивают статью. Несмотря на сбивчивость и отдельные несуразности, они подводят некоторый индивидуальный итог, который хочется рассказать всем:
В моих стихах что проку вам?
Вот – супостаты!
Я сочиняю их, мадам,
Не ради даты.
Хотя и в этом есть резон.
Вы тоже Валя!
Сейчас их даже сэр Керзон
Поймет едва ли.
И все же восемьдесят пять —
Не фига с хреном.
Живите дольше, чище, мать,
Ведь жизнь – мгновенна.
Стихи-то напишутся и без нашего ведома, а человека жаль. Будьте людьми – вот и вся «гениальность».
ВАЛЕРИЙ БАХАРЕВ: «НАМ ОСТАЛОСЬ ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ»
Формалистский поиск и беспечный индивидуализм стали обыденными приметами современной живописи. Принцип «личной оптики» или «я так вижу» успешно воцарился, и бороться за него уже как бы и не надо.
В советском Иванове все было по-другому – здесь исправно писались портреты Героев Социалистического Труда или «Большак на Сахтыш». Весь опыт исканий европейского изобразительного искусства двадцатого века то ли был неизвестен, то ли сознательно игнорировался.
Значит, кому-то пришлось приложить недюжинные усилия, чтоб пробить брешь в стене и добавить в арсенал новые виды художественных стратегий.
Весь груз (и почет) этой миссии в Иванове легли на плечи Валерия Бахарева. Последовавшее за ним поколение живописцев пользовалось «творческим своеволием» уже фактически задарма, словно это их законное право, а дорогу к нему, отстояв и узаконив, торил именно Бахарев – он стал застрельщиком. После него другим было легче.
Неудивительно, что для областного отделения Союза художников, функционировавшего в рамках партийной идеологии, Бахарев с момента появления в Иванове был «красной тряпкой», баламутом и фрондером, неудобной фигурой, которую никак не удавалось приструнить.
Чем бы он ни занимался: литературой, живописью, скульптурой, – он все время жаждал обновить, задать тон, внедрить себя; иногда даже так, что всем остальным становилось тесновато. Обычно подобных людей упрекают в эгоизме, а они просто делают все по-своему. Ни один эгоист не станет тратить время на такую нерентабельную чепуху, как современное искусство.
Бахарев щедро расточал свои силы. Вокруг него все приходило в движение, и сам он тоже не умел остановиться. Ни комсомольский официоз, ни конъюнктурные подделки для рынка, чтобы что-нибудь «всучить» под видом «настенной» или богемной эстетики, его не интересовали.
Он в этом смысле шел напрямую и очень удивлялся, узнавая о том, что его приписывают к «андеграундной культуре». Ведь Бахарев не уходил ни в какое подполье, не диссидентствовал, не опрокидывал традиционных ценностей, не шокировал зрителей оголтелым эпатажем. Его увлекала сама энергия делания. Чего именно – не так важно. Сюжет второстепенен. На картинах Бахарева появлялись то обнаженные магнетизирующие русалки, то эффектные контражурные натюрморты, то сумрачная Венеция, то роскошный Китай – это не суть. Суть заключалась в непосредственном воплощении собственного «я».
Иванова как такового на картинах не существовало. Бахарева всегда тянуло к диковинному. Ему в высшей степени было присуще то, что приблизительно можно охарактеризовать как «любовь к дальнему», словно все то, что лежит под носом, не имеет смысла.
Когда я привел Ваську к нему в мастерскую и показал шестилетнему ребенку деревянные скульптуры, я спросил у нее:
– Кто это? Как ты думаешь?
– Это пугало, – сказала Васька неуверенно, но «пугало» ей понравилось.
Скульптуры Бахарева и правда похожи на ярко раскрашенных языческих идолов. Отягощенные вековой культурой, ум и сознание современного человека ищут подпитки в разгульной древности. Образованные художники, ценители Мунка и Бюффе, Нольде и Дерена, играют в дикарей, и это естественно, потому что в такой непростой игре им видится отдушина и выход из тупика, в котором