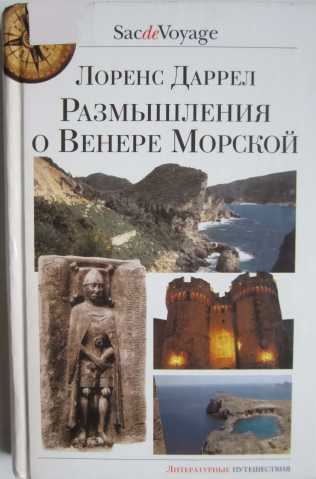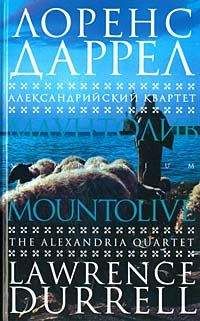все утро сидит на залитом солнцем причале, латая изорванные сети, которые дают ему средства к существованию. Руки его похожи на истертые рога, тупые и грязные, но тяжелые витки сети становятся аккуратными и изящными, словно побывали в руках кружевницы. Он что-то напевает хриплым голосом, похожим на хруст гравия, в губах зажата игла для починки парусов. На нем короткие парусиновые штаны и рубашка из грубой шерсти. Нечесаные серебряные волосы заправлены под грязную матерчатую кепку, к которой его дочь приколола булавкой розу. Утро будет не в утро, если не перекинешься парой слов с этим колоритным старым бандитом, в голосе, жестах и интонациях которого отражен сам дух Эгейского моря. Ступни Маноли распухли от соленой воды, и их явно никогда не стесняли ботинки. Он держит запасные иглы и воск между пальцами ног. Суставы на руках тоже так распухли от ревматизма, что пальцы стали похожи на колбаски.
Его шестидесятилетнее тело напоминает мне древнюю лодку с изъеденными и разбухшими от соленой воды и времени швами; но сердце его все еще молодо, у него восхитительно острый природный ум, который присущ лишь тем, кто не слишком обременен грамотностью. Дочь читает ему газеты вслух. Маноли горячо интересуется международной политикой и на удивление легко улавливает то, что таится между строк в отчетах о конференциях или официальных речах, мгновенно угадывая, что они сулят, удачу или крах, правдивы они или лживы по сути. Он гораздо вернее судит о событиях, чем его английский собрат; но в делах родной Греции разбирается хуже ребенка — особенно в том, что происходит на Родосе.
— Финляндия пробуждается, — пророчески изрекает он.
— Думаешь, она поддастся России?
— Естественно.
— А я так не считаю.
— Ты англичанин. Они ничего не видят, пока оно не случится. Англичане такие медлительные.
— А греки?
— Греки быстрые… пиф-паф… Они решают.
— Но каждый решает по-своему.
— Это индивидуализм.
— Но он ведет к хаосу.
— Нам нравится хаос.
— Маноли, что ты больше всего любишь делать?
— Посидеть, выпить рюмочку-другую.
— Что бы ты сделал, если бы стал всемирным диктатором?
— Сказал бы всем: «Остановитесь. Сейчас же. Мы все сделаем по другому».
— А если не остановятся?
— Тогда устроил бы революцию.
Он хрипло смеется над безнадежностью ситуации — и для людей, и для него самого, окажись он на месте диктатора. И поскольку он истинный грек, то и реакция его вполне типична и предсказуема.
— Если бы я понял, что это безнадежно, взял бы все деньги, какие мог украсть у правительства, и стал бы жить, как раньше.
— И что?
— И мир был бы точно там же, где сейчас. По крайней мере, я бы не сделал его хуже.
В его смехе нет цинизма. Просто он много чего видел в этой жизни и не питает обманчивых надежд. Он полагается наличный опыт; его, можно сказать, вынудили проглотить тонны горечи и исхитриться переварить эту скорбную пищу; и это испытание подарило ему кое-что весьма ценное — надежно укрытое в душе счастье, которое отражается в его лице и жестах, полных своеобычной живой красоты. К примеру, рассуждая вчера насчет Фронта национального освобождения, он сказал:
— Они пришли, чтобы избавить нас от бедности. Видит Бог, нам это ой как нужно. Но не станет бедности, начнутся другие напасти. Видит Бог, мы этого не хотим.
Его манера выражаться всегда тяготеет к пословице — единственной литературной форме, с которой он знаком.
— Забери мою бедность, но есть ли у тебя для меня счастье, которое не хуже того, что у меня вот здесь? — прижимает кулак к волосатой груди.
Нет. Он сам создал свое счастье, взрастил его, как базилик в крохотном горшочке, цветущий на подоконнике у него дома, благодаря терпению и горькой гармонии опыта.
— Но победить бедность — уже кое-что, — говорю я.
Он кивает.
— Это очень много. Но в мире столько людей, которые думают только о себе. Какой бы осел ни шел мимо, они всегда окажутся в седле.
— Но можно оказаться в седле, получив образование, выучившись по книгам.
Маноли закуривает сигарету и выпускает в синеву длинную роскошную струю дыма. Потом он снимает кепку, нюхает розу и водворяет кепку на место.
— Кто может знать, что я приобрету — и что потеряю?
И в самом деле, кто?
Сколько раз я бывал на маленьком кладбище за мечетью Мурада Рейса? Но как-то так получилось, что только сегодня увидел дом, в котором хотел бы жить. Он скрыт нависающими над ним деревьями и загорожен тремя рядами олеандров и рододендронов: в нем есть маленький кабинет, спальня и ванная. И все. Вокруг ствола баобаба выстроен раскрашенный стол: своего рода тенистая столовая. За кустарниками — турецкие надгробия, а над ними кружатся желтоватые серповидные листья эвкалипта. Я стою, прислушиваясь к своему дыханию. Тихо. Словно зеленая листва заглушает звуки с главной улицы, проходящей совсем рядом. Сам дом — поистине жалкий спичечный коробок, но рас положен в столь изумительном месте… я и представить не мог, что совсем неподалеку от нашей уродливой гостиницы есть такие красоты. К тому же в домике никто не живет, поскольку его владельца выслали домой в Италию.
«Восходящий Юпитер принесет весной удачу», — говорится в гороскопе, составленном как-то для меня в Париже великим астрологом Мориканом. Теперь я знаю, что это правда, потому что Мартин, очень жизнерадостный и добросердечный майор из Южной Африки, которого сделали ответственным за Родос, сказал, что я могу поселиться в этом доме. Если муфтии не станет возражать против того, чтобы рядом с турецким кладбищем жил христианин. Однажды утром по пути на работу я посетил священнослужителя. Он стоял во дворике, вымощенном белой и серой галькой, прихлебывал кофе и — о чудо из чудес! — беседовал по-турецки с Хойлом.
— Не знал, что вы знакомы, — говорю я.
Хойл представил меня. Муфтий, человек очень застенчивый, обут в башмаки с прорезиненными вставками, курит сигарету; втиснутую в мундштук черного дерева. Разумеется, ни слова не говорит по-гречески. Я говорю «разумеется», поскольку это, видимо, характерная черта турок, живущих за пределами Турции. Самая замкнутая, скрытная нация из всех, какие мне известны. Это не означает, что они лишены непосредственности или доброжелательности — у них предостаточно и того, и другого. Но столетия религиозной обособленности привели к тому, что каждый турок-мусульманин схож с окруженным стенами городом. На Родосе они живут, как кроты, за зарешеченными окнами, прячась в засаженных апельсиновыми деревьями садах за высокими оградами; общину их, в отличие от греческой, не раздирают мелкая зависть и распри или политические разногласия. Если хотите знать, что турецкая