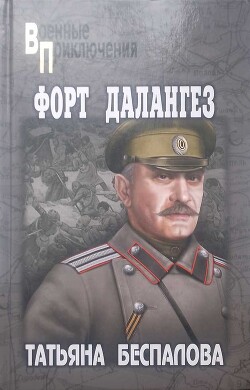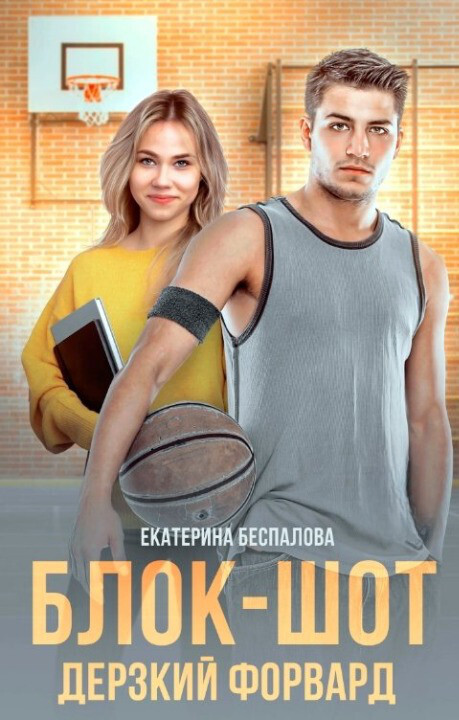телами убитых. Помню, как один из них кричал:
– Мама! Мамочка! Я не в силах слышать этой вой! Мама! Мамочка, спаси!
При этом жандарм затыкал уши пальцами, чтобы не слышать воя сирены и гула турбин штурмовиков. Ха! Забавное зрелище! Но мне его голосишко казался тише писка полевой мыши. Да, я частично оглох, но не онемел, прочем отдавать команду «всем в укрытие» было уже некому. Право слово, при таких обстоятельствах к стенке следовало ставить не только партизан, но и тыловых жандармов тоже.
А потом я наблюдал налёт в амбразуру дота. Тот, первый после контузии, налёт большевистских штурмовиков произвёл на меня чрезвычайное впечатление. Я любовался дымными грибами, поднимающими в воздух тяжёлые конструкции. Порхающие, подобно бабочкам, колёсные пары, фигуры людей, совершающие недоступные опытным акробатам сальто. Земля подо мной сотрясалась, с потолка сыпались струйки праха. Я наслаждался! Счастлив удостоившийся подобного зрелища! В небе над станцией кружились огромные русские бомбардировщики типа «Максим Горький». Библейский Апокалипсис один на все времена. И лишь тому, кто воевал, может посчастливиться увидеть подобное несколько раз. Ха!
– Вы не слышите звук тревожной сирены? – кричал один из жандармов, широко разевая рот.
Забавно! Я, разумеется, слышал завывание сирен. Но теперь на меня их заунывный вой производил совсем иное впечатление. Вопли репродуктора, заставлявшие каждую живую тварь забиваться в глубочайшие щели, казались мне преисполненным вселенской гармонии и веселья.
Само же зрелище Апокалипсиса казалось мне увлекательным, словно я попал в синематограф. Немного огорчала пороховая вонь. Но запах свежей крови! После блевотины и гноя санитарного вагона этот аромат казался мне волшебным. Я приободрился.
И ещё я себя поймал – какое интересное русское выражение «себя поймал»! – итак, после бомбёжки я себя поймал на том, что слышу вой раненых, плач и стенания перепуганных людей, отдалённый скрежет металла о металл и даже паровозные гудки. К сожалению, мой русский не достиг ещё совершенства ваших писателей. Хотя – уверяю вас в этом! – я прочёл многие тома Толстого, Достоевского, Тургенева. Моя русская подруга читала мне по памяти стихи уничтоженных большевиками поэтов. И всё же мне недоступно описание экстаза, который я ощутил, слушая звуки мира после бомбёжки. Вот только рука. Та самая рука, которой больше не было. Благодаря несравненному искусству Бергда Баума культя прекрасно заживала – ни сукровицы, ни гноя. За недели безвременья в санитарном поезде на месте моей бывшей руки образовался прекрасный, ровный рубец в обрамлении глянцевитой кожи. Но мне мешала жить боль! Отнятая кисть ныла и саднила так, словно по ней били кувалдой. Стреляющая, дёргающая, сводящая с ума боль! Она впервые накрыла меня после того памятного налёта на железнодорожную станцию. Ты большой умелец, Колдун! Когда-нибудь – может, под пыткой? Ха! – ты расскажешь мне подробно о своём искусстве.
А похоронные команды вместе с русскими пленными между тем заполняли воронку мертвецами. Мне следовало поторопиться с исполнением приказа обер-лейтенанта, и я снова построил расстрельную команду.
Партизанское стадо – всегда пёстрое зрелище. Неправда ли, Колдун? Пример: Красный профессор и его комсомольцы. Ха! Звучит почти, как Белоснежка и семь гномов. Вот и те мои возлюбленные жертвы являли собой весьма пёструю картину: мужчины в цвете зрелости, старики, подростки. С простоватыми и вполне разумными лицами, все они были в разной степени равнодушны к собственной участи, словно нет худшего ада, чем их нынешняя жизнь. Было среди них и несколько женщин. Но ни одна из них не смогла посостязаться в красоте с убитою мною Серафимой. Всего их было чуть больше десятка человек. Помню я и старика. Такой же Микулаш, как ты, Подлесных. Сгорбленный, на трясущихся кривых ногах. Ты скажешь, что прям и силён? Ха! А я думаю, что с такими ранами ты вряд ли когда-нибудь встанешь на ноги.
Я скомандовал «Огонь». В воронку повалились трое мужчин. Женщины и молодёжь остались стоять.
Итак, тыловые крысы пожалели партизан, и мне пришлось всё делать самому. Преодолевая ужасную боль, я взял в руки автомат.
Я прекратил огонь, когда в рожке кончились патроны. Вместе с ними как-то сама собой из моей руки выскочила и боль. О, как же возрадовался я тогда! В контору к ироничному швабу я явился сам не свой от радости. Но слухи о моём геройстве опередили меня. Так я застал господина обер-лейтенанта слегка напуганным. Разумеется, он пожелал поскорее избавиться от меня. Я веселился, наблюдая, как он трясущейся рукой подписывает мне пропуск в противоположном тылу направлении.
– Прошу не задерживаться. Прошу поторопиться. Вы вполне пригодны к строевой службе. А с фронта приходят вести о больших потерях, – так приговаривал он, тряся серыми усами.
Ха! Ироничный шваб меня боялся. Забавно!
Мне удалось найти место в эшелоне, следующем к Воронежскому фронту. И вот я снова с вами.
Эй, Подлесных! Зачем ты взял карабин? Тебя испугал мой рассказ или ты решил пристрелить ценного пленника? Думаешь, рана слишком тяжела? Думаешь, не потянешь троих? Ха! Я помогу тебе. Не сомневайся. Ты, как никто другой, достоин самых высоких наград.
* * *
Увлечённый собой, Ярый Мадьяр и думать позабыл об Октябрине. Похоже, он был не только глуховат, но и отчасти слеп. Ореховые его глаза подёрнулись поволокой экстаза. А ведь он говорил о её матери и братьях! Октябрина крепилась. Плакать было нельзя. Горевать пока невозможно. Она оплачет мать и братьев. Она вымолит у Бога спасения для их отважных душ. А пока надо спасать Ромку. Она ещё раз обработала его раны остатками самогона. Она пыталась контролировать состояние отца. Красный профессор неподвижно лежал на скамье. Руки его покоились на груди. Глаза были прикрыты. Она видела, как ворочаются под веками глазные яблоки. Губы отца почернели. Раненую ногу он пристроил к стене. Здоровая его нога время от времени подёргивалась. Во время всей долгой речи мадьяра он ни разу не провалился в забытьё. Наоборот! Сейчас Октябрина чувствовала отца как никогда: боль, ярость, решимость к действию и невозможность действовать терзали его. Только нехороший душок от раненой ноги становился всё слышнее.
А Ромка злился. Во-первых, ему не нравилось, что Октябрина непрестанно молится. Поначалу он только шипел на неё, а потом даже пару раз обозвал предательницей. Обозвал! Ромкин голос сейчас больше походила на шипение змеи, чем на человеческую речь, но всё же он мог говорить.
– Мы справимся… справимся… – бормотала Октябрина, натягивая на него штаны. – Да что же ты стыдишься? Оставь! С тебя едва кожу не содрали, а ты стыдишься наготы!
– Так как, ты говоришь, звали твоих братьев? – требовательно спросил Колдун.
– Иван, Владимир и Матвей, –