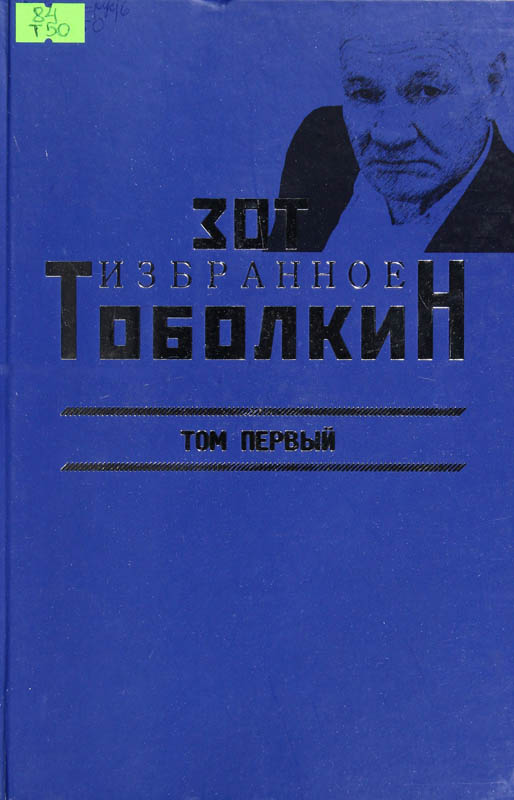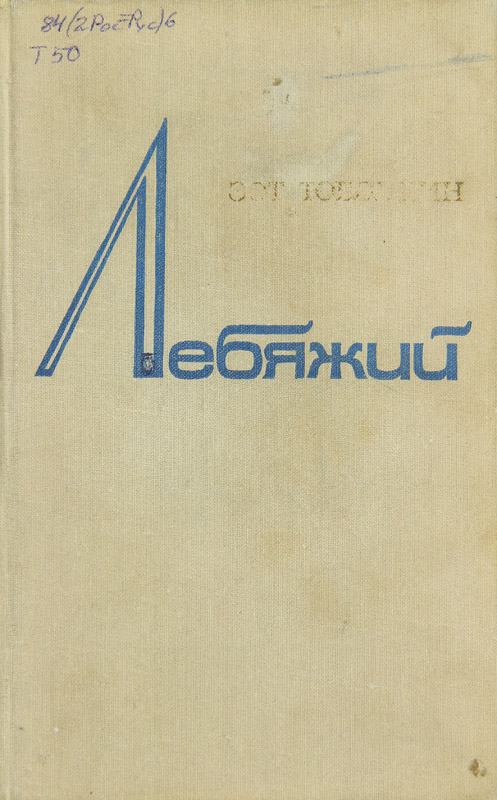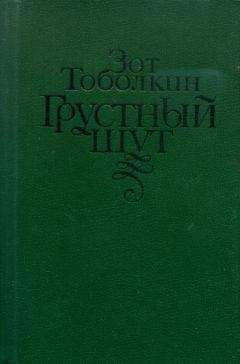всяким. В ограде подслеповато щурились крохотными окнами скитские кельи. В середине скита часовня, обнесённая заплотом. Над ним навес с колючими шипами, в заплоте – бойницы...
Переняли старцы от предков своих умение возводить недоступные для врагов крепости.
И вот – огонь под часовнею взвился. Нерукотворный огонь – то гнев божий. И кто-то из старцев ударил в бухало. И, воздевая к небесам руки и моля о пощаде, пали на колена люди. Разъярённый робостью, их поп бешеный посылал единоверцев в пламя. Над ними воссияла молния...
– Поразит ли она вожа? – раздался позади Ремеза чей-то слабый надтреснутый голос.
– Ежели в полымя кинутся – допреж всех поразит, – убеждённо сказал Ремез. – А не поразит, дак я того полудурка собственноручно изжарю!
– Ето как же? – голосок вдруг отдалился. Видно, тот, кому он принадлежал, отскочил. – За какие-таки грехи?
– Чтоб век людям не укорачивал. Не он возжёг свечу жизни – не ему гасить.
– Творцу-то видней, – заключил голосок не слишком уверенно.
«Судить по голосу, дак Фока. Горбат, мал, умом ущербен... Как же поддались ему люди?» – Ремез и не зная старца угадал – горбат, мал и голова луковицей, голая, в родимых пятнах. Стоял в двух-трёх саженях, стерёгся. Верно описали его тарские казаки. Зол, говорили, и коварен.
– Чо переполошился, раб божий! Я не полымя, не испепелю.
– Человек – грехов скопище, огня страшней.
– Сам-то не грешен?
– Все грехи мои огонь священный очистит.
– Твои – ладно, детишки в чём грешны? – этот нетопырь вызывал омерзение. И Ремез брезгливо разглядывал выродка, возомнившего себя божьим посланцем.
– Потому и огню преданы будут, дабы грехов не ведать, – проблеял Фока и жабьими уставился глазками. Две чёрные смолистые дырочки источали отчётливое торжество: вот-де, я и убог, и бессилен, а сильнее тебя. – Перед судьёю небесным предстанут невинными, – ликующе заключил он и отступил ещё дальше.
А ты? А Мефодий? Вы какими перед богом предстанете?
– И мы очистимся, – Фока снова приблизился к Ремезу, ткнул худым скрюченным пальцем в нарисованного пастыря. – Пастырь-то в ските я... Почто он росту великого? Почто молонья над ним?
«Может, и впрямь плюгавца сделать? И не молонью – гадюку над ним?» – прикидывал Ремез, дивясь доверчивости обманутых людей, подпавших под влияние уродца.
– Подь ближе, подсказывай! Править стану.
Фока с оглядкою приблизился. Оглядывался не зря: из-под горы вышел серенький ослик.
– Чем не святитель? Шествие на осляти, – расхохотался Ремез.
В Тобольске видывал крестный ход и в Вербное, и в Троицу.
Владыка причетом под звон колокольный, под сладкоголосие певчих садился за неимением осла на коня и, уже хмельной, раздавал прихожанам щедрые благословения. Коня вёл под уздцы воевода, тоже бывший навеселе.
– Сядь на скотинку-то, – велел Ремез душ улавливателю. – Соверши круг не спеша. Да борзо, борзо!
Горбун, пыжась, сделал круг и второй. И вот на огненном извиве молнии появились чёрная головка змеи, с боков – крылья. Проповедник, став чуть ли не вдвое короче, восседал на осле. Рука по-прежнему оставалась воздетой, рот в безумном призыве широко раззявлен.
– То я, – удовлетворённо кивнул Фока. – Сию икону повесим в скитской часовне.
– Чтоб сгорела? – свёл брови Ремез. – Не для того старался.
– Не сгорит... И я из пепла восстану, – хитро ухмыльнулся горбун. – Яко птица волшебная Феникс. Бесследно сгинет в пепле Мефодий, завистник мой и проискатель.
«Так, – отметил для себя Ремез. – А ты, стало быть, ускользнёшь. Ну коли так, иную заставлю произнести проповедь».
– Веришь ли ты в своё воскрешение?
– То сам увидишь, – загадочно улыбнулся Фока. – И обусловил: – Токо опосля нарисуй святого Фоки воскресенье. Праведник да не будет наградою обойдён! – Фока дал Ремезу золотой.
«Ого! – удивился Ремез. – Дойная коровушка! Мне благочинный эстоль не плачивал».
- За воскресенье получишь вдвое. Щас – задаток, горбун дал изографу ещё одну монету. Мошну, по всей видимости, имел тугую и денег не жалел, а может, Ремез не знал цены истинной трудам своим. Да кто из русских изографов знал её? Рублёв? Или мастера новгородские?
«Житие святого Фоки напишешь» – озолочу, – обещал горбун, пыжась ещё больше.
– Как же я напишу, ежели ты гореть надумал? Мне натура нужна, лики мучеников, страстоперцев...
– Гореть не к спеху – погодим, – решил Фока, чрезвычайно порадовав тем Ремеза. – Айда в обитель. Братьев даром твоим порадуем...
52
– Айда в обитель нашу... Братьев даром твоим порадуем, – сам, как дитя радуясь, что будет наконец увековечен, и ему, яко Егорию Победоносцу или Николе Угоднику, станут молиться.
«Святой Фока... Фока-чудотворец... Фока-праведник...» – навеличивал себя горбун. И вытворял чудеса: камень в хлеб превращал, козу – в корову, оживлял мёртвого, вразумлял бесноватого... И, наконец, совершив множество благодеяний, живым вознёсся в небо. Там был причислен к сонму святых.
К обители не берегом ехали, как предполагал Ремез. От крутой излучины взяли влево, и ослик, дорогу помнивший, рысцою спустился в лог. Через версту в низинке – кто бы подумал! – засинел бор, зачирикали птахи. Осёл, толкнув груздь копытом, остановился и стал жевать.
– Сыть! Падаль! – рвал поводья Фока. Ушастик невозмутимо пасся. Потом, наглядев курень сухих груздей, и вовсе лёг на брюхо.
– Грибник! – разуздывая коня,