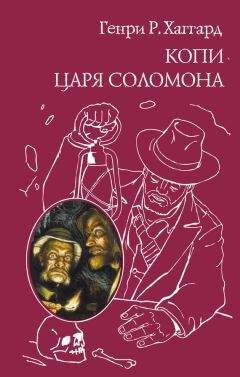– Не забуду, Макумацан; я подумаю о том, что ты сказал.
Когда Игноси ушел, я отправился к Гуду и застал его в сильнейшем бреду. Лихорадка, неразлучная с раной, крепко захватила его в свои когти, да еще осложнилась каким-то внутренним повреждением. Он пробыл в самом отчаянном положении около четырех суток, и я твердо уверен, что он непременно умер бы, если бы не Фулата, которая неутомимо ухаживала за ним во время болезни.
Женщины – всегда женщины, какого бы цвета ни была у них кожа, и куда ни пойдешь – всюду они одни и те же. А все же меня немного удивляло, что эта чернокожая красавица день и ночь склоняется над постелью больного и исполняет свое дело милосердия так же ловко и осторожно, с таким же тонким пониманием своих обязанностей, как самая лучшая европейская больничная сиделка. В первые две ночи я старался ей помогать, так же как и сэр Генри, который собрался ухаживать за больным, как только мог пошевелиться; но она приняла наше вмешательство с большим неудовольствием и наконец настойчиво потребовала, чтобы мы предоставили больного ей одной, уверяя, что мы не умеем с ним обращаться, что было, вероятно, совершенно справедливо. Она ухаживала за ним, не отходила от него ни днем ни ночью, давала ему его единственное лекарство – прохладительное туземное питье, сделанное из молока, смешанного с соком какого-то луковичного растения, – и неутомимо отмахивала от него мух. Как сейчас вижу всю эту сцену, повторявшуюся день за днем, ночь за ночью, при свете нашей первобытной лампы; вижу исхудалое лицо и широко раскрытые, неестественно блестящие глаза Гуда, который мечется на постели и бормочет всякую чепуху, и около него на полу – стройную кукуанскую красавицу с нежными глазами, которая сидит, прислонившись к стене хижины, и ее утомленное лицо так и дышит безграничной жалостью.
Мы думали, что он непременно умрет, и бродили кругом в глубочайшем унынии. Только Фулата ни за что не хотела этому верить.
– Он будет жить, – твердила она.
Вокруг главной хижины Твалы, где лежал больной, царила полная тишина; по распоряжению короля все обитатели соседних хижин, кроме сэра Генри и меня, перешли на время в другие помещения, чтобы ни малейший шум не беспокоил больного. Однажды ночью – то было на пятую ночь его болезни – я пошел его навестить, как всегда делал, прежде чем уйти к себе.
Я осторожно вошел в хижину. При свете стоявшей на полу лампы я увидел, что Гуд больше не мечется на постели и лежит совершенно неподвижно.
Итак, все кончено!.. И в порыве тяжкой скорби, наполнившей мою душу, я не мог удержать рыдания…
– Шшш!.. – раздалось из темного угла за изголовьем Гуда.
Я тихонько подошел ближе и увидел, что он совсем не умер, а просто спит крепким сном, не выпуская из своей бледной, исхудалой руки тонких пальцев Фулаты. Кризис миновал, и теперь он, наверное, будет жить! Он проспал таким образом восемнадцать часов, и все это время самоотверженная девушка продолжала сидеть около него, боясь, что он может проснуться, если она встанет и выдернет у него свою руку. Мне даже неприятно об этом упоминать, так я боюсь, что мне никто не поверит. Что она тут перенесла, как страдала от усталости, от невозможности переменить положение, наконец от недостатка пищи, это трудно описать; но когда он проснулся и освободил ее руку, она уже не могла пошевельнуться от изнеможения, и ее пришлось унести на руках.
Раз дело пошло уже на лад, Гуд стал очень быстро поправляться и скоро совершенно выздоровел. Когда он был уже почти здоров, сэр Генри рассказал ему обо всем, чем он был обязан Фулате; но когда дело дошло до того, как она высидела восемнадцать часов около его постели, боясь пошевельнуться, чтобы его не разбудить, глаза честного моряка наполнились слезами. Он повернулся и пошел прямо в ту хижину, где Фулата приготовляла нашу полуденную трапезу (мы теперь жили в своем прежнем помещении), захватив с собой и меня в качестве переводчика, хотя я должен признаться, что она понимала его удивительно хорошо, особенно если принять во внимание, сколь ограниченны были его познания во всех иностранных языках.
– Скажите ей, – обратился ко мне Гуд, – что я обязан ей своей жизнью и что я никогда не забуду ее доброты!
Я перевел его слова; она вся вспыхнула.
Повернувшись к нему одним из тех быстрых грациозных движений, которыми она мне всегда напоминала дикую птичку, она устремила на него свои большие карие глаза и кротко отвечала:
– Нет, господин мой, ты забыл! Разве не ты спас мою жизнь, разве я не должна служить тебе?
Нужно заметить, что эта молодая девица, очевидно, совсем забыла, что сэр Генри и я также принимали участие в ее освобождении от когтей Твалы.
Вскоре после этого события Игноси собрал на торжественный совет всех именитых кукуанских граждан и был торжественно признан королем. Это было очень величественное торжество. Разумеется, дело не обошлось без смотра войск, причем остаток Белых участвовал в церемонии, после чего король благодарил их в присутствии всего остального войска за блистательные подвиги во время великой битвы, сделал каждому воину богатый подарок и произвел их всех в офицеры нового полка Белых, который теперь формировался. Затем по всей Кукуании отдан был приказ воздавать нам королевские почести, пока мы делаем честь стране своим присутствием; а нам самим предоставлено право жизни и смерти над всеми гражданами. Кроме того, Игноси еще раз, в присутствии всего народа, подтвердил свои обещания, что отныне в его государстве кровь человеческая не будет проливаться иначе как по приговору суда и колдовские охоты будут уничтожены.
Когда церемония окончилась, мы подошли к Игноси. Напомнив ему, что нам бы хотелось поскорее проникнуть в таинственные копи, к которым вела Соломонова дорога, мы осведомились, не узнал ли он чего-нибудь нового по этому поводу.
– Друзья, – отвечал он, – вот что я узнал: там сидят те страшные исполины, что зовутся Безмолвными; им собирался Твала принести в жертву прекрасную деву. В этом же самом месте, в огромной пещере, скрытой в недрах гор, погребаются наши короли; тут вы увидите и тело Твалы вместе с теми, что ушли раньше его. Там же есть глубокий колодезь, выкопанный жившими в древности людьми, может быть, ради тех самых камней, о которых вы говорите. Здесь же, в «Обители Смерти», есть потаенная комната, известная только королю и Гагуле. Но Твала, знавший ее тайну, уже мертв, а я ее не знаю и даже не знаю, что хранится в этой комнате. Предание гласит, что однажды, много поколений назад, пришел сюда белый человек из-за далеких гор, и одна женщина провела его в потаенную комнату и показала ему сокровища, но, прежде чем он успел их похитить, она выдала его королю, и король того времени прогнал его назад в горы, и с тех пор ни один человек в эту комнату не входил.
– Это, наверное, правда, Игноси. Ведь мы нашли в горах белого человека, – сказал я.
– Да, нашли. Я обещал вам, что если вы найдете эту комнату и если там есть камни…
– Тот камень, что сияет на твоем челе, доказывает, что они есть, – прервал я, указывая на огромный алмаз, снятый мной с мертвого Твалы.
– Может быть; если они там, вы возьмете их столько, сколько сможете унести с собой – если вы в самом деле хотите меня оставить, братья! – прибавил он.
– Прежде всего надо найти эту комнату, – сказал я.
– Путь к ней может указать вам только Гагула.
– Ну а если она не захочет?..
– Тогда она умрет, – строго сказал Игноси. – Я только для этого пощадил ее жизнь. Стойте! Пусть она решит сама.
Он кликнул гонца и приказал привести Гагулу.
Через несколько минут ее привели двое стражей, которых она не переставала бранить и проклинать всю дорогу.
– Оставьте ее, – приказал им король.
Лишившись поддержки, она сейчас же упала на землю, как безжизненный сверток старого тряпья, да так и осталась лежать какой-то бесформенной массой, в которой только и было живого, что глаза, злые и блестящие, точно глаза ядовитой гадины.
– Чего ты от меня хочешь, Игноси? – запищала она. – Ты не смеешь меня тронуть. Если ты до меня дотронешься, я испепелю тебя на месте. Берегись моих чар!
– Твои чары не могли спасти Твалу, старая волчица, и мне они не опасны, – был ответ. – Слушай: я хочу, чтобы ты нам открыла, где та комната, в которой хранятся сияющие камни.
– Ха, ха, ха! – визгливо захохотала старуха. – Никто этого не знает, кроме меня, а я тебе никогда не скажу. Белые дьяволы уйдут отсюда с пустыми руками.
– Ты мне скажешь! Я тебя заставлю сказать.
– Нет не заставишь, о король! Ты велик, но в твоей ли власти выпытать правду у женщины?
– Трудно, но я добьюсь своего.
– Как же ты это сделаешь, о король?
– А вот как: если ты мне не скажешь, то умрешь медленной смертью.
– Умру! – возопила она в ужасе и в страшной ярости. – Ты не смеешь меня тронуть, король, – ты не знаешь, кто я. Сколько мне лет, как ты думаешь? Я знала отцов твоих и отцов твоих отцов. Я уже жила на свете, когда эта страна цвела юностью, и все еще буду жить, когда она состарится… Меня может убить только случай: ни один человек не посмеет поднять на меня руку.