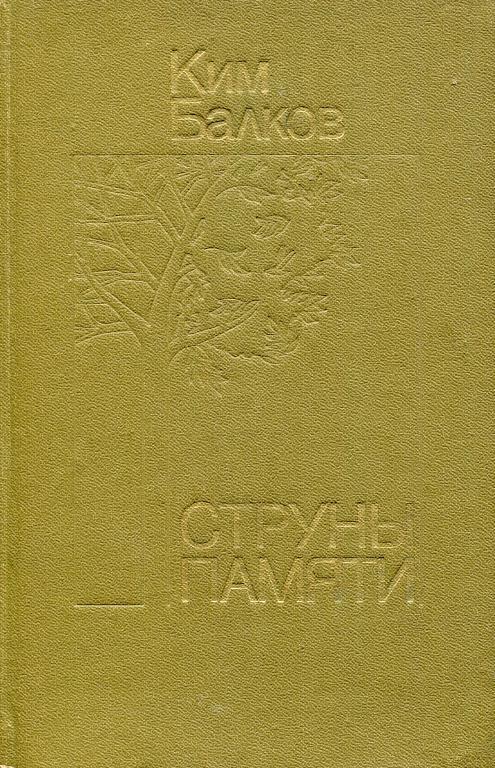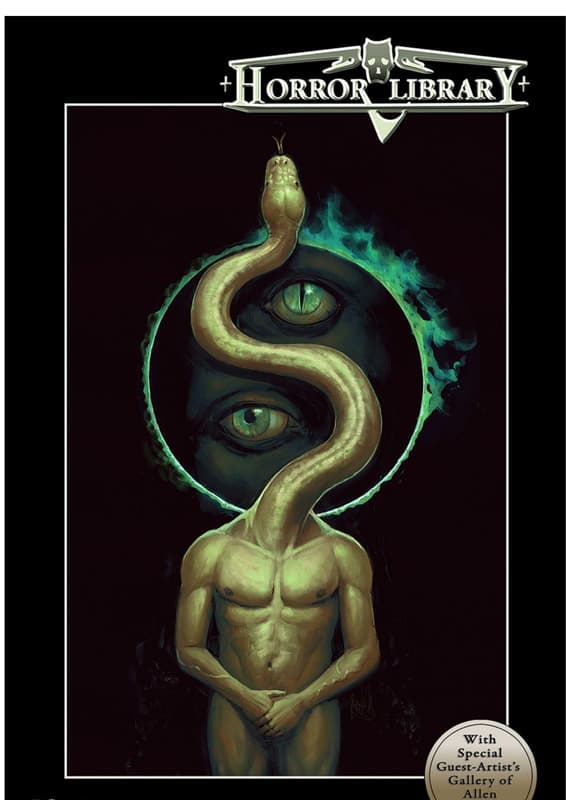слеплены. А все ж — мое. И у тебя, Сидор, — мое, только позаковыристей.
— Ну, знаете, — пошел к двери.
— Что знаете? — спросил Мартемьян Колонков.
Сидор Гремин задержался на пороге, силясь ответить. Да не смог. Услышал, как Зиночка сказала отцу:
— Разве так можно?..
Обернулся, встретился с Зиночкой глазами, почувствовал, что она и сейчас с ним. Рядом… Осторожно прикрыл за собою дверь.
39
Лежал поселок в долине, оцепленный со всех сторон скалами. Откуда-то издалека слышалось:
На вершине снег-снежок,
А в долине жарко.
Уведи меня, милок,
В тень, под куст боярки.
Небо было не в пример вчерашнему — ясное. Неброско светило утреннее солнце. Сидор Гремин стоял на крыльце конторки и смотрел, как мимо него проходили тракторы, лязгая чокерными цепями и подымая следом густое облако пыли. Но вот увидел, подрулил к гаражу самосвал. Остановился. Не мешкая, Сидор Гремин сорвался с места и — к самосвалу. Спросил у шофера:
— Почему не по дороге?
— Кардан полетел.
Не сдержал себя — выругался.
К Сидору Гремину подошел Лешка. Худой, неладно скроенный, улыбается:
— Айда с нами на сплав. Брось ты их!..
Сидор Гремин насупился, сузил глаза, оглядывая парня:
— Мне некогда.
— Жаль, — сказал Лешка. — Там весело.
Повернулся, чтобы уйти, но Сидор Гремин остановил его:
— Как… весело?
— За воскресенье-то, поди, наворотило леску. Теперь мороки будет. Ох-хо-хо! — Хохотнул, дурачась, развел руками.
Ближе к полудню Мартемьян Колонков вышел из дому, постоял у калитки, втягивая ноздрями приятно пахнущий перестойными травами воздух, торопливо зашагал по улице. Выйдя за околицу поселка, остановился у росстани. На развилке земля как молью изъедена дождем. Легкая рябь бежит, рассыпается по долине.
Присел Мартемьян Колонков на обочину дороги.
Кружились над головой птахи. Земля отливала желтоватой прозеленью.
Открываю глаза. Отец стоит рядом с койкой. Черные с сединою волосы расчесаны на пробор. В узких, монгольского разреза глазах при желании можно разглядеть: дал бы тебе еще поспать, если бы не дело… Так что извини и не куражься — не поможет.
Потом отец уходит. Я поднимаюсь, поеживаюсь: в избе с утра прохладно, натягиваю рубаху, не глядя, ногами отыскиваю под кроватью валенки, влезаю в них… Прохожу на кухню. Мать возится у печи, она не в духе: отец с вечера ходил к приятелю и задержался, пришел домой за полночь… Вчера мать ни слова не сказала отцу, зато теперь, видать, настраивает себя на нужную волну: то-и дело подходит к печи, приподнимает крышку кастрюли и тут же сердито опускает ее… Отец тихо, словно бы крадучись, передвигается по кухне, заложив за спину руки, с неизменною самокруткою во рту. Изредка он взглядывает на мать, успевая подмигнуть мне, будто говоря: ишь, расходилась, как самовар, но ничего, мы сейчас потушим уголечки-то… Я уже знаю, чем это кончится, и хмурюсь: мне интересно.
— Мам, чего делать-то? — спрашиваю я.
Мать секунду-другую смотрит на меня, потом говорит недовольно:
— Он еще спрашивает… он еще спрашивает… Вот навязались на мою душу, окаянные! Чтобы вас век не видели мои глаза! Чтоб вы все…
— Так-то уж и все? — возражаю я. — Небось, исплачешься, если что…
— Цыц! — кричит мать. — Иди умойся. Да с-под коровы не забудь выгрести. Ишь ты, умный какой… И чего лотом с него будет, господи!
— А человек и будет, — философски замечает отец.
Мать немедленно оборачивается к нему:
— С тобой разговор еще впереди…
Но какое там «впереди…» По тому, как мать перестает суетиться и уже не заглядывает в кастрюли, а застывает посреди кухни с поварешкой в руке, я понимаю, что она «созрела» для разговора. Тороплюсь ополоснуть лицо к выйти из дому. Закрывая за собою дверь, слышу, как мать с привычной обидой в голосе говорит:
— Ишь, моду взял — на ночь глядя по гостям ходить. А еще учитель…
«Ну, завела, — думаю я. — Теперь скажет: ты всю жизнь мне заел, что я доброго видела-то?» И верно, последнее, что я слышу, это слова матери:
— Что я доброго видела-то?..
На дворе мороз под сорок, под стрехами крыши воробьи жмутся. Запускаю руку в карман телогрейки, нащупываю хлебные крошки от вчерашней краюхи, за которую крепко влетело мне от матери: «Вечно ты не наедаешься, таскаешь куски… Что за ребенок!..»
— Куть-куть-куть!.. — подзываю воробьев. Те, заслышав, срываются сверху, жадно глотая поклеву.
На крыльцо выходит отец, без телогрейки, в шапке-ушанке, надвинутой на ухо, глаза виноватые, говорит раздельно, по слогам:
— Ну, Ка-тю-ша!..
Замечает меня, велит подойти поближе:
— Мать-то совсем с тормозов сошла…
— А, подумаешь, не впервой…
— Ну ты, умник! — обижается отец, но ненадолго, говорит: — Будто уж и с приятелем не могу посидеть, потолковать о жизни… Но да будет!.. — Хмурит брови: — В стайке убрал? Нет, конечно? Скоро в школу, а он еще в стайке не убрал. Вот лодырь царя небесного!..
Я иду к стайке. Корова, заслышав мои шаги, мычит, трется боком о дверку так, что березовый стояк, которым подперта стайка с наружной стороны, аж весь прогибается. «Ладно тебе, — говорю я. — Ишь, нетерпеливая…» Выпускаю корову из стайки, задаю ей сена.
Корова у нас добрая, по двенадцать литров молока дает в сутки: ее отец в колхозе, когда выбраковка шла, на бычка выменял…
Чищу в стайке. Потом захожу домой, присаживаюсь к столу. Жду, когда мать нальет в кружку чаю. Возле меня сидит сестра, кокетливо отпивает из стакана. Она на два года старше меня. Если мне сейчас двенадцать, то ей… Арифметика несложная!.. Кто-то сказал, что она красивая, и она охотно поверила в это. Теперь из дому не выйдет, не покрутившись у самовара. Может, и красивая, не знаю.
Из комнаты выходит отец. Он нынче не завтракал. Демонстративно!..
— Что, пошли?..
Живем мы на пришкольном участке. Здесь стоят пять домов для учителей и их семей. Сама же деревня находится от нас в двух километрах.
Мой шестой «б» на первом этаже, стоит только пересечь наискосок узкий коридор, пол в котором давно пора бы перестелить: уж очень он скрипучий, половицы так и пригибаются, особенно когда на них ступает нога школьного военрука.
Захожу в класс. Говорю голосом тонким и унылым, подражая преподавательнице русского языка и литературы:
— Здрас-сте, дети!..
Дети не слышат. Тогда я набираю в легкие побольше воздуха, кричу:
— Здорово, лодыри!..
Услышали. Кто-то уж бежит навстречу:
— Сделал по математике? Дашь переписать?
— Нет, — говорю я.
Это я куражусь. Конечно, дам переписать.