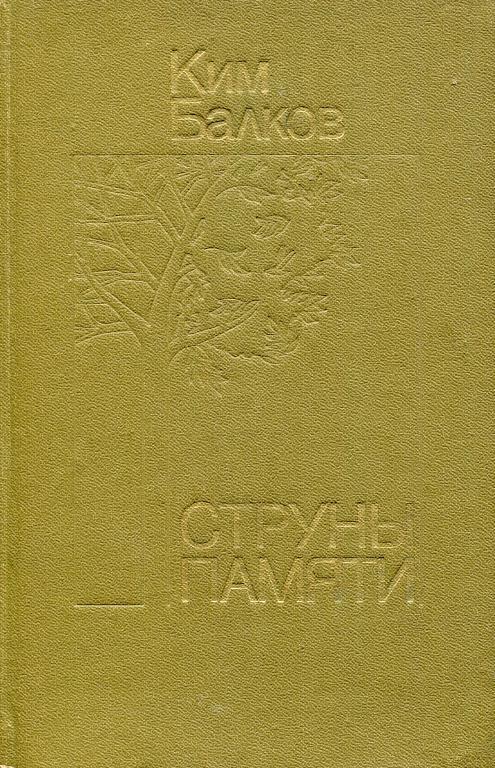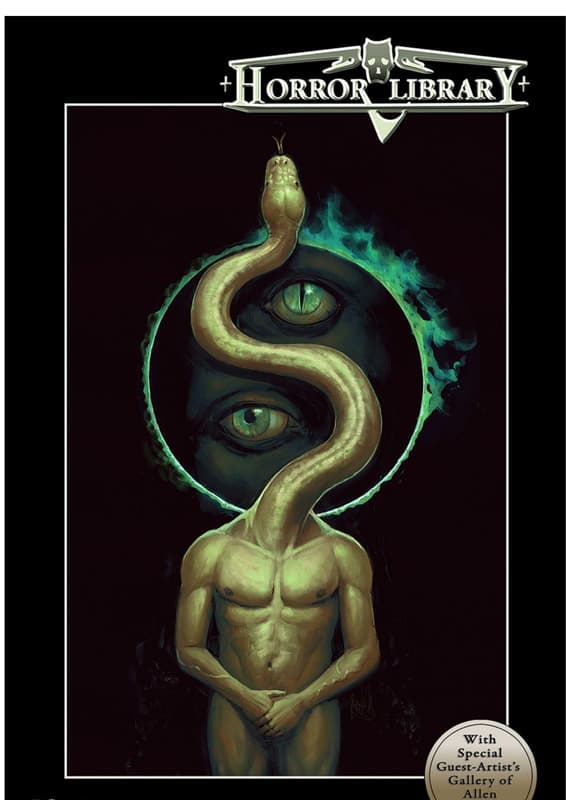И потом, уже в комнате, всплескивает руками: — Ой, оченьки, и впрямь орден!.. Да никак разыскали? Вот радость-то! Вот праздник-то! И в прежнем звании, значит, восстановили?..
Вечером мы сидим за праздничным столом. Отец в старой вылинявшей гимнастерке, на груди у него орден…
— Еще бы погоны на гимнастерку — и лады, — говорю я. — Здорово было бы!..
Отец слегка озадачен:
— Можно и погоны. Да где их взять?..
— Я у военрука видел… Офицерские, блестят. Закачаешься. Хочешь, сбегаю? А звездочки у меня есть.
— Во, выдумали, — несердито ворчит мать, — Погоны им подавай! — Оборачивается к отцу: — Может, опять на войну наладишься?..
— Ну ее, войну эту! — Отец улыбается. У него хорошее настроение. — А сын пусть посмотрит на отца-героя во всей, так сказать, красе. Когда и посмотреть, как не теперь…
Я выскакиваю из-за стола, второпях неплотно прикрываю за собою дверь.
Потом мы с сестрой пришиваем погоны на гимнастерку. Отец сидит в нижней рубашке, терпеливо дожидается. Он щуплый, дальше некуда… Мать с минуту разглядывает его, смеется:
— Знать, великая нужда была в людях в эту войну, коль моего азиата не обошли вниманием — забрили…
— Катюша!.. — грозит ей отец покалеченным пальцем. — Отставить разговорчики!
Но вот и готово… Я смотрю на отца и не узнаю его. Красавец!.. И вовсе не щуплый, и плечи что надо… Одно слово, боевой офицер! И отец тоже чувствует торжественность минуты: сидит за столом прямо, хмурит брови. А они у него густые, черные, нависают над переносьем.
Мне до слез жалко, что минута эта длится недолгой. Кто-то стучит в дверь. Отец сразу сникает, пробует сорвать погоны, но они пришиты крепко.
На пороге вырастает школьный военрук, мужчина средних лет, кровь с молоком. Глядит на отца со смущением, а потом, скорее механически, чем осознанно, прикладывает руку к шапке:
— Разрешите, товарищ старший лейтенант?..
Отец справляется с волнением:
— Садись за стол, сержант.
Сестра уводит малышей в спаленку. Скоро, позевывая, уходит мать. Мы остаемся втроем: я и два бывалых солдата. Мне приятно сидеть с ними и слушать.
— Опять же, когда идешь в атаку… — медленно и трудно подбирая слова, говорит отец. — Фриц-то он не дурак, скажу тебе, тоже соображает… не ты, так он тебя… Выбирать не приходится. Коли… стреляй… Поганое это дело — война…
— Так-то уж?.. — не соглашается военрук. — Я только на войне и почувствовал себя человеком. «Сержант, — бывало, говорит мне командир. — Надо достать языка…» И я доставал. А как приятно, когда тебя благодарят перед строем! Я, как теперь, вижу…
— Были и такие… Форсуны! А война — это тяжелая работа. И — неблагодарная… Одна мысль и помогала выстоять, не потерять в себе человека: земля родная в беде.
— А нам командир говорил: воевать надо весело… И это мне правилось. Пропадать, так с музыкой! Ничего, выжил…
— Весело жить надо — не воевать. А ты…
— Что я?..
— Скучно живешь. Ни жены, ни детей… Скучно.
— Так найди невесту, чтобы была по сердцу, — сердится военрук. Маленькие, угольками, глаза его нехорошо блестят. — Мне эти колхозницы ни к чему. На ночь глядя руки не моют. Мне баба толковая нужна, красивая. Чтоб не стыдно было выйти на люди. А нынче… Зачем же я кровь проливал?..
— Ну и ну… — удивляется отец. — Философия! — Помедлив, спрашивает: — Ты кто по специальности? Тракторист?.. А чего ж в военруки записался? В войну захотелось поиграть? Не наигрался? — У отца дрожат руки. Я подвигаюсь к нему со стулом, толкаю его в бок: мол, не очень, а то начнешь, как в тот раз, не остановишь потом… Утром весь испереживаешься.
Отец успокаивается.
— Слышь, старшой, как в плен-то тебя угораздило? — малость спустя спрашивает военрук.
— А-а… — не сразу отвечает отец. — Надо было провести разведку боем. Вот моей роте это и поручили. Да-а… — Отец долго молчит. — Комбат взял мои документы: иди, старшой… Улыбается, а глаза тоскливые. Знает, что не вернусь, Да и я понимаю. Пошли на рассвете… Немец заметил, такой огонь открыл — головы не поднять. Лежу, вжавшись в землю, думаю: «Идти надо, идти…» Потом поднимаюсь, кричу: «Вперед!..» Три раза вот как поднимались, а уж на четвертый и вставать-то с земли было некому. Лишь я да ординарец остались. Тут-то меня и ударило… Ничего не помню… Контузия… Очнулся уж в плену. Блиндаж. Обер-лейтенант напротив меня за столом… скалит зубы, гад! Возле него в штатском один, я уж потом понял: русский… Из власовцев, должно быть. Немец, значит, вопросы задает, а этот переводит… Молчу! И тут слышу: «Вы кто будете по национальности? Казах? Узбек?..» Чудно мне это показалось. «Бурят, — говорю. — А что?..» Они смотрят друг на друга. Видать, никак не сообразят… Мне это очень обидно стало. «Как же так? — думаю. — Они даже такой национальности не знают, сволочи!..» «Бурят-монгол», — говорю. Вот здесь-то и началось… Немец обрадовался: «Монгол! Монгол!.. Карашо!.. Чингис-хан?.. Я-а…» Потом что то тому на ухо сказал переводчику, после чего слышу: «Русских вы, разумеется, ненавидите?..» Возмутился я: «Это как — ненавидите?.. Да у меня жена русская. А вот тебя, сволочь продажная, точно ненавижу!» Кинулся я на этого переводчика, схватил его за горло. Да-а… Крепко тогда отделали меня. До сих пор к ненастью кости ноют. — Отец замолкает, смотрит на военрука. Тот уже клюет носом… Потом он уходит. Отец снимает гимнастерку, аккуратно вешает ее на спинку стула. Велит и мне раздеваться, после чего идет в спальню.
Я снимаю со спинки стула гимнастерку, долго разглядываю орден.
Новенький. Поблескивает. Хо-ро-шо!..
Завтра приезжает дед Пронька. По этому случаю мать затевает уборку в избе: промывает с песочком полы, навешивает на окна полотняные, из сундука, довоенной еще выделки шторы, настилает половички. Велит отцу натопить большую печку, начинает стряпать… Я не выхожу из кухни, смотрю, как мать ловко выбирает из квашни пористое, наполовину с картофелем, тесто, скатывает в калачи, бросает на лопату… Но вот мать закрывает заслонкой пышущее жаром нутро печи, утирает лицо фартуком.
— Мам, а дед Пронька здоровущий, поди?.. — опрашиваю. — У вас в родове все здоровущие. Хотя бы дядя Алексей…
Мать садится на стул, задумывается. Лицо у нее в тонких, иссиня-бледных морщинах, большие руки неспокойно лежат на коленях.
Мать вся в домашнем хозяйстве, и невелико вроде бы хозяйство: корова с телком да пара овечек, — а всякий раз к вечеру у нее «разламывается» спина и голова идет кругом, только подумает о том, чего не успела сделать… Но верно и то, что ребятишек у нас целый выводок да все мал мала меньше. Я-то не в счет, я постарше…
— В