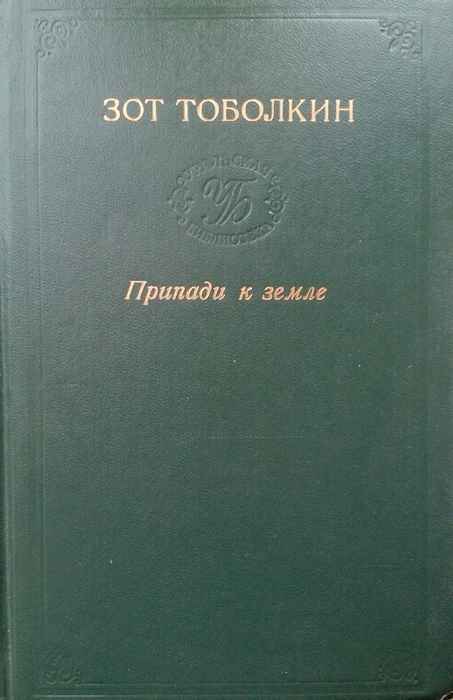В окно зарабанили. Это подъехали покосники. Проглотив последнюю ложку окрошки, Евтропий вышел из-за стола, склонился над зыбкой, в которой спал младенец.
Снова застучали по раме.
- Успеете! – вытерла сухие глаза Агнея. – Проститься не дадут.
- Имей совесть, Агнея! – кричал Панкратов. – Другим бабам маленько оставь!
- Вот ботало! – Евтропий опасливо покосился, повёл лопатками, которые всё ещё жгло.
Не разобрав, что он сказал, на улице рассмеялись. Смеялись просто так. Покос – пора весёлая, звонкая. Евтропий знал это и не сердился на шутки.
- Ну вот я и готов! Поцелуемся? – он обулся, молодецки притопнул ногой.
- Подь ты к лешему! – огрызнулась Агнея, но сама же гулко чмокнула мужа в кустистую пегую щетину.
- Долго обнимался! – иронически встретил его Панкратов.
- Её за один раз не обнимешь, по частям приходится, – сказал Федяня.
- Сапоги ссохлись, – объяснял свою задержку Евтропий. – С утра не мог отмочить.
Федяня, словно сидел на иголках, заёрзал, спрыгнул с телеги, начал приплясывать:
Ах он, сукин сын, камаринский мужик! Снял штаны и повдоль улицы бежит!
- Он бежит, бежит, бежит, бежит, бежит! – понужнув лошадей, подпел Панкратов. Федяня отстал и, поругиваясь, затрусил вдогон. Бежал до самой Одины, пока Венька, догнав ехавших впереди других покосников, не придержал коней.
- Вытряс дурь-то? – помогая ему усесться, проговорила Афанасея.
- Что вытряс – не заметил, может, и дурь была, – огрызнулся Федяня и тут же подавился крупным подзатыльником. – А легче нельзя? Лён сломишь!
- Поговори ишо! – пригрозила женщина. Федяня умолк, не желая связываться с ней.
Часам к шести подъехали к Земляному, которое считалось дальним покосом. Здесь жили неделями, по очереди выезжая в баню и за продуктами. Издали, на большой елани, увидели Прокопьев трактор. На косил очном прицепе сидел новый председатель сельсовета Ефим Дугин. Он не утерпел и тоже выехал на покос.
На малых еланях трещали конные косилки с гусевщиками.
Рушился сочный пырей.
Оседали кудрявые визили.
- Высоко выбухала! – увязая по самые колена, шагала по травам Афанасея.
- Травинка на «ять», – кивнул Евтропий. – Разгружайтесь да за балаганы!
Здесь же, среди оживлённых покосников, переминался с ноги на ногу учитель, не зная, к кому приткнуться.
- Ты бы не лез под ноги-то! – поворчал Федяня. Когда-то, учась у Ивана Евграфовича, он частенько получал от него «плохо» и «очень плохо», а теперь сам решил оценить его практическую сметку. – Бери топор да виц наруби!
Иван Евграфович отошёл к кустам и неумело замахал топором, оглядываясь на парня: «Не смейся!».
- Я бы тебе кур щупать и то не доверил! Гляди, как наш брат, колхознички, на вас робят!
Отняв топор, стал сокрушать гибкие сочащиеся талинки.
- Ну, как? – сложив в кучу всю нарубь, спросил.
- Отлично.
- Тащи к балаганам!
Учитель, кряхтя, поволок прутья, теряя их по пути.
Через час подле болота вырос балаганный городок, уложенный сверху и с боков травою.
- Меня к себе пустишь? – робко спросил учитель.
- Шибко надо! – отвечал Федяня. – Я лучше девку приглашу. Пойдёшь в артель, Шурёна?
- Иди сюда, Александра! – позвала Афанасея. – А ты, выродок, с глаз скройся, пока я добрая!
Парень забился в балаган и, высосав там бутылку водки, сгинул в лесу.
- Гли-ко! – указала Фёкла на косцов, которые маячили вдали. – Ровно ласточки на проводе.
Её и Шуру назначили поварихами. Афанасея, отставшая от косцов, им помогала.
- Согласно идут! Пойти покосить, что ли?
- Сиди – накосишься. Наше дело бабье...
- Бабы-то мы в постели. А на работе поболе их гнёмся...
Тёплою водицей брызнули поздние сумерки.
Задремали кузнечики.
Примолкли в камышах утки.
С торжественной медлительностью возвращались косари. Развесив на ветки берёз остывающие косы, неторопливо смывали с себя пот, курили. Парни и девчата, не успев присесть, сновали вокруг балаганов, плескались водою. Иные подсаживались к костру, который, дразнясь, показывал бесчисленные красные языки.
Порхали редкие приглушённые фразы, пока в ночи не повисла песня. И хоть запевал её немудрящий жестяной голосок, но лилась она задушевно и трогательно.
Вы не вейтеся, русые кудри, Над моею больной головой,
- Выводил Евтропий. Ему сразу же отзывались женщины и бережно несли нехитрую мелодию чрез весь белый свет.
Куда подевалась пьяная горластость, сопутствующая всякой песне в праздничные дни! Удивительную светлую грусть источали голоса. Песня плыла над одиноким костром, над тихим лесом и где-то далеко и неслышно терялась в ночи.
...И вдруг раздумчивую тишину расколола другая песня, пьяная, разгульная...
...Я ручки-ии и ножки сло-оооааамммаю И жи-илочки-иии порвууу...
- Уже хватил! – сказала Шура и насильственно рассмеялась. Ей почему-то было стыдно за Федяню, который успел в одиночку напиться и теперь своими разухабистыми выкриками сломал тесную задушевность, не такую уж частую гостью.
- Ну и варначище! – рассердился Евтропий.
- Сколь живу, сроду на покосе пьяных не видывал, – сказал Панфило.
- Выгнать его, да и только.
Подойдя ближе, Федяня протолкался к костру.
- Хватит ныть! – сказал он. – Давайте весёлую!
- На первый раз прощу! – сурово сказал Евтропий. – На второй спуска не жди. Теперь спать. Утре до свету подыму.
- Хы! Спать! Ноне вся Сибирь бессонницей мается... Сыграй!
- Спать!
- Ишь ты! Кочка на ровном месте! – удивился Федяня и, удаляясь, пропел:
Девчонки, я вас не хвалю, не хаю,