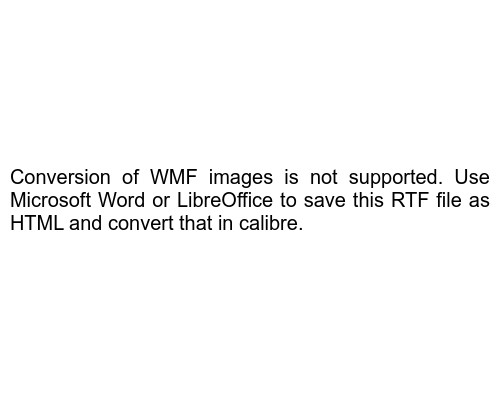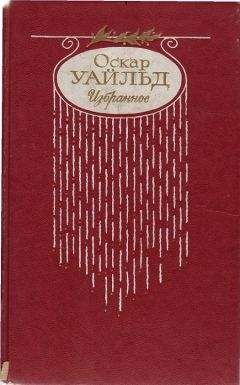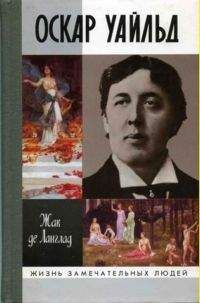не поделать - лишь привязать их спиной друг к другу, что даже не доставит им никаких мучений, и бросить в реку - утопленники в современном духе. Думаю, Темза в районе Баркинга им как раз подойдет...
- Куда ты каждый день ездишь? - однажды спросил я.
- Фрэнк, я езжу в Канны, сижу в кафе и смотрю на другой берег моря, на Капри, где Тиберий сидел и наблюдал за всеми, словно паук. Представляю, что я - изгнанник, жертва его тайных подозрений, или что я сижу в Риме, смотрю на людей, которые танцуют обнаженными, но с позолоченными губами, на улицах во время «Флоралий». Ужинаю с арбитром вкуса и возвращаюсь в Ла-Напуль, Фрэнк, - Оскар оттопырил челюсть, - к простой жизни и очарованию спокойной дружбы.
Я всё яснее понимал, что усилия упорной работы писательства Оскару теперь чужды: он превратился в одного из этих гениев беседы, наполовину художников, наполовину - мечтателей, которых Бальзак презрительно описал следующим образом: «Оии говорят лишь для того, чтобы слушать свою речь». Они на самом деле способны на тонкое понимание, иногда им удается хорошая фраза, но они не способны на суровые усилия воплощения в жизнь: очаровательные спутники, в будущем обреченные на бедствия и нужду.
Постоянное созидание - первое условие искусства, так же, как и первое условие жизни.
Однажды я спросил у Оскара, помнит ли он этот ужасающий пассаж о «евнухах искусства» в «Кузине Бетте».
- Конечно, Фрэнк, - ответил Оскар, - но Бальзак, вероятно, завидовал художнику-собеседнику. Как бы то ни было, нас, мастеров беседы, не следует осуждать тем, кому мы дарим плоды своего таланта. Пусть нас судят потомки. Но, в конце концов, я ведь много написал. Помнишь, как защищал себя Сарто?
«Преданный сын
копирует мои двести картин —
желаю удачи».
Оскар не понимал, что Бальзак, один из величайших мастеров беседы, когда-либо живших на свете, если верить Теофилю Готье, осуждал соблазн, которому, несомненно, сам поддавался слишком часто. К моему удивлению, Оскар сейчас даже не очень много читал. Он не хотел узнавать новые мысли, слегка сопротивлялся любому новому интеллектуальному влиянию. Думаю, он достиг своего зенита и начал превращаться в окаменелость, как бывает с людьми, которые перестают расти.
Однажды за обедом я спросил у Оскара:
- Как-то раз ты сказал, что всегда представляешь себя на месте каждого исторического персонажа. Если бы ты был Иисусом, какую религию ты проповедовал бы?
- Прекрасный вопрос! - воскликнул Оскар. - Какова моя религия? Во что я верю?
Главным образом я верю в личную свободу для каждой человеческой души. Каждый человек должен делать то, что ему нравится, развиваться, как захочет. Англия, или, скорее, Лондон, потому что я плохо знал Англию за пределами Лондона, была для меня идеальным местом, пока меня не наказали за то, что я не разделяю их вкусы. Фрэнк, что это был за абсурд: как они посмели наказать меня за то, что с моей точки зрения было хорошо? Как они посмели? - Оскар погрузился в мрачные размышления... Идея новой проповеди на самом деле его не заинтересовала.
Примерно тогда он рассказал мне идею новой пьесы, которую вынашивал.
- Там есть великолепная сцена, Фрэнк, - сказал Оскар. - Представь сорокапятилетнего развратника, который женится. Он неисправим, конечно же, Фрэнк. Заставляет женщину, в которую влюблен, уехать и жить с ним в деревне. Однажды вечером его жена, которая ушла наверх, лежит в постели с головной болью, за ширмой в полусне, и тут ее будят - она слышит, что ее муж с кем-то любезничает. Не в силах пошевелиться, она лежит бездыханная на кушетке, всё слышит. Потом, Фрэнк, муж женщины, с которой любезничает супруг героини, подходит к двери и обнаруживает, что она заперта, знает, что его жена - в комнате с хозяином, стучит в дверь, хочет зайти, и пока виновные перешептываются - женщина обвиняет мужчину, мужчина пытается придумать оправдание, какой-то выход из ловушки, его жена очень тихо встает и включает свет, а двое трусов смотрят на нее в ужасе. Она идет к двери и открывает ее, муж женщины врывается в комнату, обнаруживает там еще и свою хозяйку, а не только хозяина и свою жену. Думаю, сцена великолепна, Фрэнк, великая сценическая картина.
- Так и есть, - сказал я. - Великолепная сцена. Почему бы тебе это не написать?
- Вероятно, на днях напишу, Фрэнк, но сейчас я думаю о поэзии, о «Балладе мальчика-рыбака» - некоем собрате «Баллады Рэдингской тюрьмы», в ней я воспою свободу вместо тюрьмы, радость вместо скорби, поцелуи вместо наказания. Эту песню радости я напишу намного лучше, чем песню скорби и отчаяния.
- Как «Баллада о монастырке» Дэвидсона, - сказал я, лишь бы что-то сказать.
- Конечно, Дэвидсон написал «Балладу о монастырке», Фрэнк, его талант - шотландский и суровый, а я предпочитаю написать «Балладу о мальчике-рыбаке», - и Оскар погрузился в мечты.
Мысли о понесенном наказании часто его преследовали. Это казалось ему ужасно неправильным и несправедливым. Но он никогда не ставил под сомнение право социума наказывать. Оскар не понимал: если признать это право, можно оправдать и несправедливость, которую совершили с ним.
- Я считал себя хозяином жизни, - сказал Оскар. - Как посмели эти мелкие плуты осуждать и наказывать меня? Все они запятнаны чувственностью, которая мне противна.
Дабы отвлечь его от горестных сожалений, я процитировал сонет Шекспира:
"Я собственным глазам внушаю ложь,
Клянусь им, что не светел свет дневной.
Так бесконечно обаянье зла,
Уверенность и власть греховных сил,
Что я, прощая черные дела,
Твой грех, как добродетель, полюбил.
Все, что вражду питало бы в другом,
Питает нежность у меня в груди.
Люблю я то, что все клянут кругом,
Но ты меня со всеми не суди».
- Оскар, жалобы у него - в точности как у тебя.
- Просто поразительно, Фрэнк, как хорошо ты его знаешь, и всё равно отрицаешь факт его интимной близости с Пемброком. Для тебя он - живой человек, ты всегда говоришь о нем так, словно он только что вышел из комнаты, но всё равно упорствуешь в убеждении о его невинности.
- Ты неверно меня понял, - сказал я. - Страстью его жизни была Мэри Фиттон - вот как ее звали. Я имею в виду «смуглую леди сонетов», которая была Беатриче, Крессидой и Клеопатрой, а ты ведь и