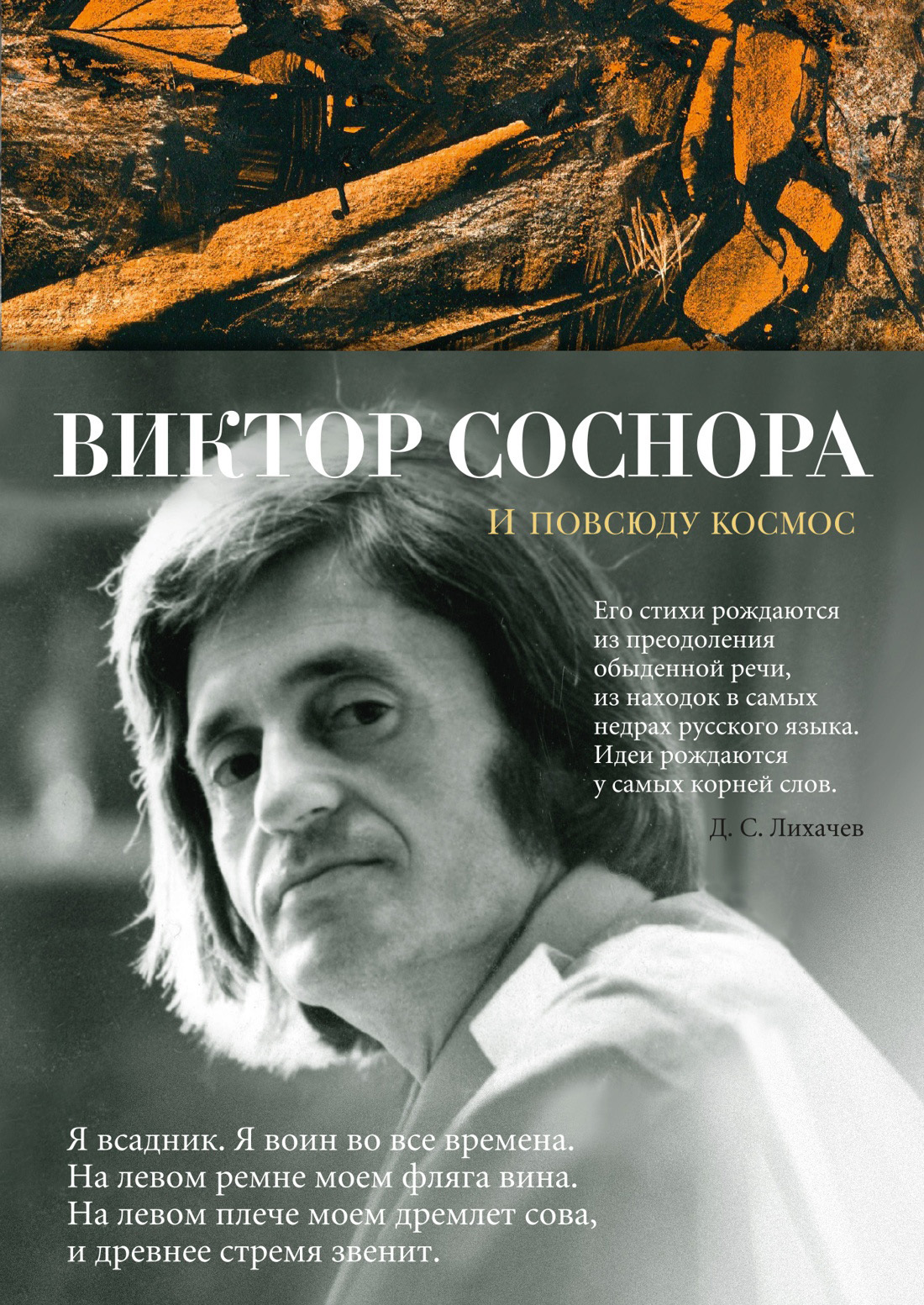сама собой судьба.
Животное и труженик. Неверно:
«раб творчества» или «избранник неба»,
все проще – труд избранника-раба.
Как я убил? Известно как. Извольте:
на скалах водоросли и известка,
он поскользнулся и упал, увы!
Кто и когда вот так не оступался…
Я счастлив был. Но как я ошибался!
Я не его – я сам себя убил.
Они меня ни в чем не обвиняли,
и добросовестные изваянья
мои – кирками! под ступени плит!
Был суд. И казнь. Я клялся или плакал.
Был справедлив статут Ареопага.
Я струсил смерти. Я сбежал на Крит.
И как волна Эгейская играла!
Все после – Минос, крылья, смерть Икара…
Не помню или помню кое-как.
Но идолопоклонники Эллады
про Тала позабыли, а крылатость
мою
провозгласили на века.
Смешные! Дети-люди! Стоит запись
в истории оставить всем на зависть,
толпа в священном трепете – Талант! —
И вот уже и коридоры Крита,
и вот мои мифические крылья,
«да не судим убийца – он крылат!»
Орфеев арфы и свирелей ноты,
орлы небес и комары болота,
хохочет Хронос – судороги скул!
Кому оставить жизнь – какой-то розе
или фигуре Фидия из бронзы?
Не дрогнув сердцем, говорю – цветку.
Он, роза, жив. Отцвел и умирает.
А Фидий – форма времени, он – мрамор,
он – только имя, тлен – его талант.
Ни искупленья нет ему, ни чувства,
а то, что называется «искусство», —
в конце концов, лишь мертвые тела.
Кто архитектор, автор Пирамиды?
Где гении чудес Семирамиды?
О Вавилонской башни блеск и крах!
Где Библии бесчисленных отечеств,
переселенье душ библиотеки
Александрийской?
Все, простите, прах.
Искусством правят пращуры и бесы.
Художник – только искорка из бездны.
Огни судьбы – агонии огни.
Остановись над пропастью печали,
не оглянись, тебя предупреждали!
О прорицатель, о не оглянись.
Не оглянись, художник. Эвридика
блеснет летучей мышью-невидимкой,
и снова – тьма. Ни славы, ни суда.
Ни имени. И все твои творенья
испепелит опять столпотворенье.
Творец – самоубийца навсегда.
Все, что вдохнуло раз, – творенье Геи.
Я – лишь Дедал. И никакой не гений.
И никакого нимба надо мной.
Я только древний раб труда и скорби,
искусство – икс, не найденный искомый,
и бьются насмерть гений и законы…
И никому бессмертья не дано.
1
На небеса взошла Луна.
Она была освещена.
А где-то, страстен, храбр и юн,
к Луне летел какой-то Лун.
Не освещенный, не блистал.
Он лишь летал по небесам.
Сойдутся ли: небес канон —
она и невидимка – он?
2
Там кто-то ласточкой мелькнул.
Там кто-то молнией мигнул.
Кузнечик плачет (все во сне!).
И воет ворон в вышине.
Чей голос? Голосит звезда
или кукушка без гнезда?
Овчарня – овцам. Совам – сук.
Когтям – тайник. Копытам – стук.
Ах, вол и волк! Свободе – плен.
Льду – лед. А тлену – тлен и тлен.
И за слезу в последний час
как семь потов – в семь смертных чаш.
3
И вот – кристаллики комет…
Кому повем, кому повем,
и злой, и звонкий я, поэт,
и зло и звон моих поэм?
Иду под пылью и дождем,
как все – с сумою и клюкой,
ничто не жжет, никто не ждет,
я лишь ничей и никакой.
Нет, я легенд не собирал,
я невидимка, а не сфинкс,
я ничего не сочинял,
Эллада, спи, Эллада, спи.
Спи, родина, и спи, страна,
все эти битвы бытия,
сама собой сочинена,
ты сочинила, а не я.
Что на коне, что на осле,
мне все едино – мир и миг,
и что я слеп или не слеп,
и что я миф или не миф.
Мой лес, в котором столько роз
и ветер вьется,
плывут кораблики стрекоз,
трепещут весла!
О соловьиный перелив,
совиный хохот!..
Лишь человечки в лес пришли —
мой лес обобран.
Какой капели пестрота,
ковыль-травинки!
Мой лес – в поломанных крестах,
и ни тропинки.
Висели шишки на весу,
вы оборвали,
он сам отдался вам на суд —
вы обобрали.
Еще храбрится и хранит
мои мгновенья,
мои хрусталики хвои,
мой муравейник.
Вверху по пропасти плывут
кружочки-звезды.
И если позову «ау!» —
не отзовется.
Лишь знает птица Гамаюн
мои печали.
– Уйти? – Иди, – я говорю.
– Простить? – Прощаю.
Опять слова, слова, слова
уже узнали,
все целовать да целовать
уста устали.
Над кутерьмою тьма легла,
да и легла ли?
Не говори – любовь лгала,
мы сами лгали.
Ты, Родина, тебе молясь,
с тобой скитаясь,
ты – хуже мачехи, моя,
ты – тать святая!
Совсем не много надо нам,
увы, как мало!
Такая лунная луна
по всем каналам.