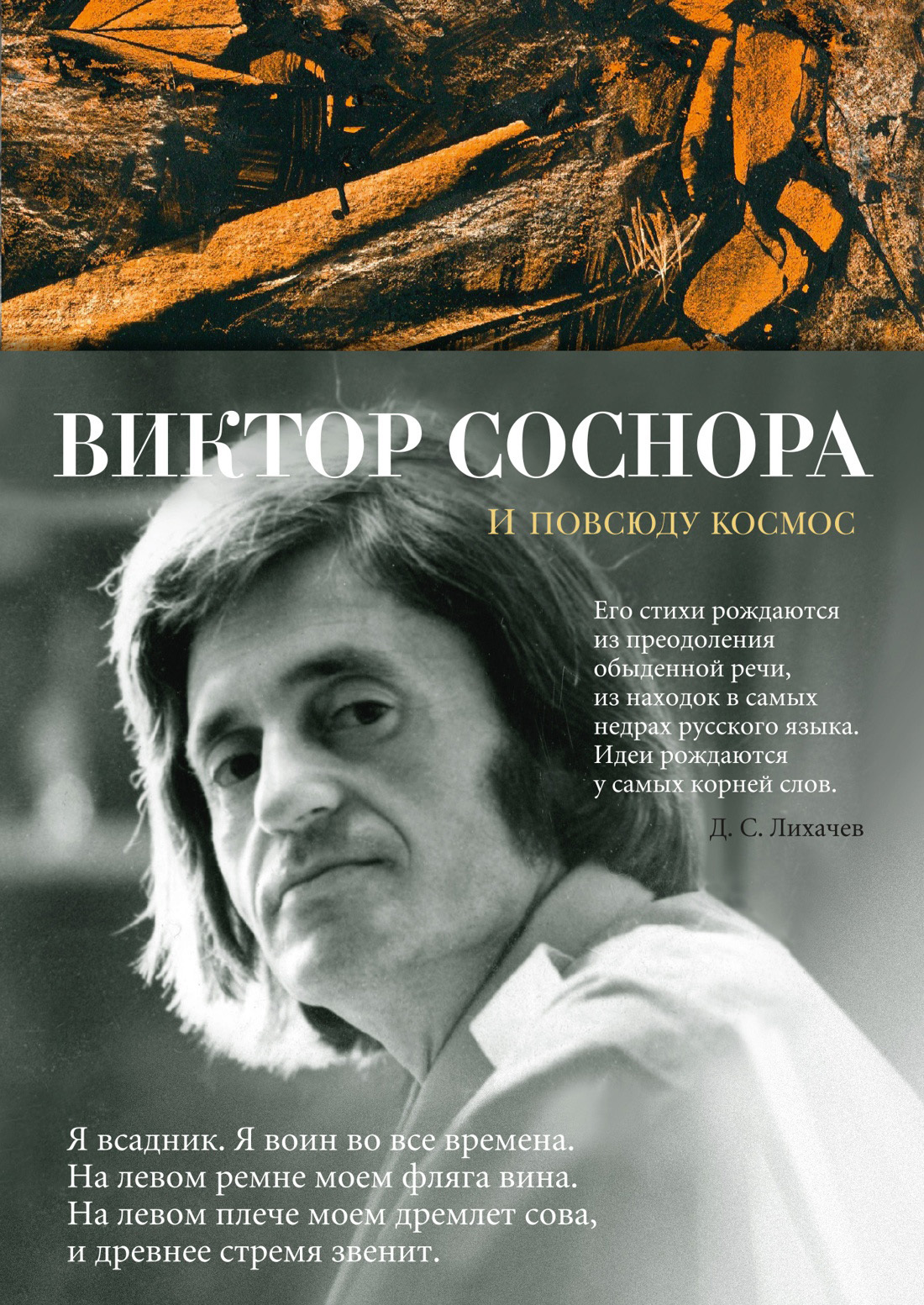Виктор Александрович Соснора (1936–2019) – поэт, драматург, прозаик, переводчик. Прямой продолжатель традиций русского литературного авангарда и безусловный классик, творческое наследие которого еще предстоит осмыслить. Многие годы руководил литературным объединением в Ленинграде. Писать стихи начал в шестнадцать лет, но ранних стихотворений сохранилось очень мало – автор, по его собственным словам, испытывал «тягу к самосожжению» и многое попросту уничтожил. Его стихи по мотивам «Слова о полку Игореве» принесли ему заслуженную славу: «За четыре месяца я стал знаменит, распечатан в самых верхнепартийных изданиях и вошел в первую четверку поэтов страны». Но его творчество не подчинялось ни стимулам, ни ограничениям, это был художник, отличающийся какой-то первозданной, космической внутренней свободой. «Я никогда не писал ни для читателя, ни для… ни для кого! Хуже того скажу вам: я и для себя не писал никогда. Это просто находит какое-то состояние, понимаете… и… пишется. А потом не пишется».
меня, а здесь оставил
наместником и летописцем смерти,
сказал «живи», и я живу – кому же?
сказал «иди», и я иду – куда?
сказал мне «слушай» – обратился в слух,
но не сказал ни слова…
Сказка Сада
завершена. Сад умер. Пес пропал.
И некому теперь цвести и лаять.
На улицах – фигуры, вазы, лампы.
Такси летит, как скальпель. Дом. Декабрь.
Стоят старухи головой вперед.
О диво диво: псы – и в позе псов!
Судьба моя – бессмыслица, медуза
сползает вниз, чтоб где-то прорасти
сейчас – в соленой слякоти кварталов
растеньицем… чтобы весной погибнуть
потом – под первым пьяным каблуком!
«Я тебя отворую у всех семей, у всех невест…»
Я тебя отворую у всех семей, у всех невест.
Аполлону – коровы, мяса́, а я – Гермес.
Аполлону – тирсы и стрелы, а я – сатир,
он – светящийся в солнце, а я – светлячком светил.
Я тебя (о двое нас, что – до них, остальных!),
я тебя отвою во всех восстаньях своих.
Я тобой отворю все уста моей молвы.
Я тебя отреву на всех площадях Москвы.
Он творил руками тебя, а я – рукокрыл.
Он трудился мильоны раз, а я в семь дней сотворил.
Он стражник жизни с серебряным топором.
Он – жизнь сама, а я – бессмертье твое.
Я тебя от рая (убежища нет!) уберегу.
Я тебя отправлю в века и убегу.
Я тебе ответил. В свидетели – весь свет.
Я тебе отверил. И нашего неба – нет.
Нет ни лун, ни злата, ни тиканья и ни мук.
Мне – молчать, как лунь, или мычать, как мул.
Эти буквицы боли – твои семена,
их расставлю и растравлю – и хватит с меня.
«Храни тебя, Христос, мой человек…»
Храни тебя, Христос, мой человек, —
мой целый век, ты тоже – он, один.
Не опускай своих соленых век,
ты, Человеческий невольник – Сын.
И сам с собою ночью наяву
ни воем и ничем не выдавай.
Пусть Сыну негде преклонить главу,
очнись и оглянись – на море май.
На море – мир. А миру – не до мук
твоих (и не до мужества!) – ничьих.
Сними с гвоздя свой колыбельный лук,
на тетиве стрелу свою начни.
И верь – опять воспрянет тетива.
Стрела свершится, рассекая страх.
Коленопреклоненная трава
восстанет. А у роз на деревах
распустятся, как девичьи, глаза.
А небо – необъятно вновь и вновь.
А нежная распутница – гроза
опять любовью окровавит кровь.
И ласточка, душа твоя тенет,
взовьется, овевая красный крест.
И ласково прошепчет в тишине:
– Он умер (сам сказал!), а вот – воскрес.
«Все прошло. Так тихо на душе…»
Все прошло. Так тихо на душе:
ни цветка, ни даже ветерка,
нет ни глаз моих и нет ушей,
сердце – твердым знаком вертикаль.
Потому причастья не прошу,
хлеба-соли. Оттанцован бал.
Этот эпос наш не я пишу.
Не шипит мой пенистый бокал.
Хлебом вскормлен, солнцем осолен
майский мир. И самолетных стай
улетанье с гулом… о старо!
И ни просьб, ни правды, и – прощай.
Сами судьбы – страшные суды,
мы – две чайки в мареве морей.
Буду буквица и знак звезды
небосклона памяти твоей.
«Я оставил последнюю пулю себе…»
Я оставил последнюю пулю себе.
Расстрелял, да не все. Да и то
эта пуля, закутанная в серебре, —
мой металл, мой талант, мой – дите.
И чем дальше, тем, может быть, больше больней
это время на племя менять.
Ты не плачь над серебряной пулей моей,
мой не друг, мой не брат, мой – не мать.
Это будет так просто. У самых ресниц
клюнет клювик, – ау, миражи!
И не будет вас мучить без всяких границ
мой ни страх, мой ни бред, мой – ни жизнь.
«Я вас любил. Любовь еще – быть может…»
Я вас любил. Любовь еще – быть может.
Но ей не быть.
Лишь конский топ на эхо нас помножит
да волчья сыть.
Ты кинь коня и волка приласкаешь…
Но ты – не та.
Плывет твой конь к тебе под парусами,
там – пустота.
Взовьется в звон мой волк – с клыками мячик
к тебе, но ты
уходишь в дебри девочек и мачех
моей мечты.
Труднее жить, моя, бороться – проще,
я не борюсь.
Ударит колокол грозы, пророчеств, —
я не боюсь
ни смерти, ни твоей бессмертной славы, —
звезду возжечь!
Хоть коне-волк у смертницы-заставы,
хоть – в ад возлечь!
Проклятий – нет, и нежность – не поможет, —
я кровь ковал!
Я – вас любил. Любовь – еще быть может…
Не вас, не к вам.
В эту осень уста твои
я оставил на них, морях.
А их было по счету – три.
Только три, не