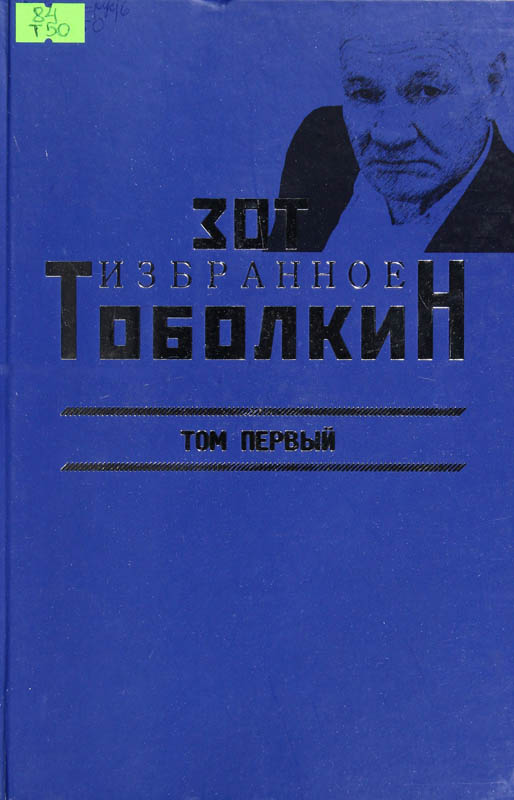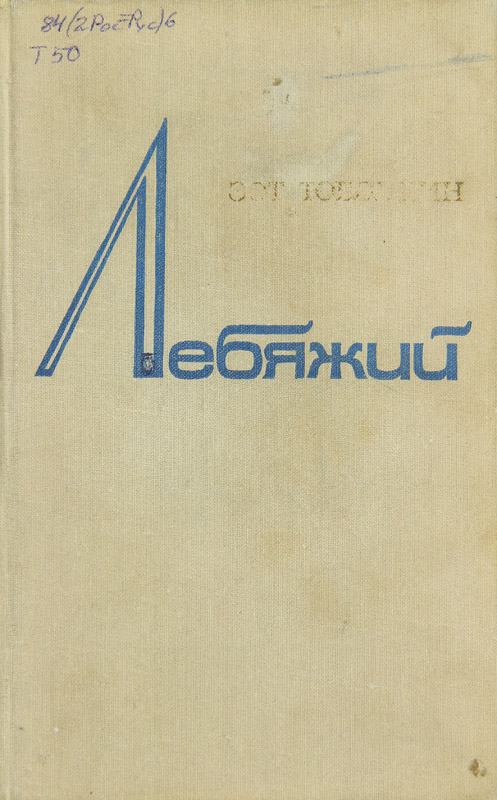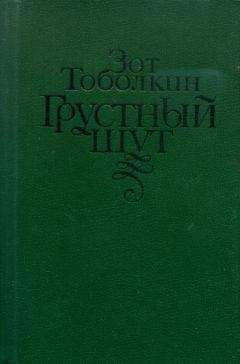ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
У меня ли муж
не удала голова?..
(Из старинной песни) 1
В Петров день хоронили Отласа-старшего. Хоронили того, кто вместе с Петром Бекетовым, ныне тоже покойным, на месте старого Якутского острога забил первый кол.
– Походил, помахал сабелькой-то... вина попил с душок, – перед кончиной озорно подмигивая затёкшим красным глазом младшему сыну, Володею, хрипел он. Видя встревоженные лица домашних, успокоил: – Ишо нескоро отправляюсь. Ступайте. Ты, Володей, со мной будь... Слово посмертное имею.
Толкаясь в дверях, вышли сыновья, внук Васька, сноха, жилица Ефросинья с беременной дочерью. В избе расселись по лавкам, молчали. Через порог заглядывала смерть, а старый озорник будто не помирать – жениться собрался. Весь век прожил с шуточками. Вот и теперь, в последний свой час, шутит. Из всех, кто был здесь, его осуждала строгая, набожная Ефросинья да, не в пример прочим неверующим Отласам, кроткий и богомольный Григорий, средний сын. Был он грамотен, выучился чтению и письму у пришлого попа, заодно и Володея, младшего брата, выучил. Тот цепок умом, всё схватывал сразу... Правда, письмо поначалу давалось туго. Уж больно громоздки его руки, хоть сам росточку среди всех Отласов невеликого, но свилеват, как каменная берёза, быстр глазами и телом и непостоянен: то ласков как телок, то вдруг ни с чего освирепеет, и тогда близко не подходи. Отец отличал его из всех сыновей. Да и братья младшего баловали. Явился на свет, когда мать-покойница в горячке была... померла. Не зная, что родила третьего сына. Кормили из рожка, хлеб жевали, иной раз и к родительницам бегали и христом-богом выпрашивали грудного молочка. Хворал часто, раза три дышал на ладан. Думали, не жилец. А он выжил, выкарабкался, и потому он всем в семье особенно дорог. Может, за многие хворобы его или за то, что грудным сиротой остался, прощали всякое озорство, любили. Да и он почитал братьев. Впрочем, порой и насмешничал то над тихим Григорием, то над молчуном Иваном. Зато уж потом, если ненароком обидит кого, хоть ноги об него вытирай: будет молчать и потягиваться, как здешние добрые псы. Бродят они по улицам, наступишь – оглянутся, подождут, когда уберёшь ногу, и побредут дальше, добродушно виляя пушистым хвостом. Но если ударишь, вмиг клыки покажут... Упаси боже от этих клыков: вопьются в ногу – пол-икры выхватят.
Ефросинья голосу не подавала, не смела – человек пришлый. Приняли на постой, и слава богу. Куском хлеба не попрекают, работой не шибко приневоливают. Обычные бабьи дела: постирать да еду сготовить. Вдвоём с дочерью и с женой Ивана, Фетиньей, справляются с этим скоро. Фетинья уживчива, родилась со смешинкой. Иван степенный молчун, вечно в походах казак служивый. Друг дружку редко видят, не ссорятся.
Сейчас же Фетинья поглядывала то на него, тяжело, надсадно дышавшего, то на дверь, за которой остались тесть с Володеем. Лихорадочно билась мысль: «Знает или не знает?».
Был грех у неё, о котором ведали только она да Володей... Может, проговорился нечаянно деверь младший? И не о покойничке печалилась, как положено, а о том, в чём была повинна.
Стешка, дочь Ефросиньина, запрокинув голову, словно её душили, не замечала слёз, торивших тропинки на нежных, в лёгком румянце щеках. Жалела Отласа: берёг он её, ровно дочь свою, баловал – то отрез купит на сарафан, то бусы... Берёг, да от сына, а верней, от самой себя не уберёг.
Уходит старый Отлас из жизни бесслёзно и весело, мало заботясь о том, сколь грешил на земле. Огромна земля, а он её от моря Белого о самой Лены прошёл... Весь в шрамах, но ещё больше – в грехах. Два века не хватит их отмолить. А если придётся гореть за них в геенне огненной – будет гореть с улыбкой, как жил. Жизнь-то его разве не геенна? День с семьёй да год в скитаниях; спал где ночь заставала; ел, что под руку попадало. И каждую минуту в дрёме тревожной ждал вражьей пули или стрелы. Напоследок ногами оскудел шибко и – затосковал. Потом, полежав в безделье, заявил чадам своим: «На Индигирке есть воды горячие... слыхал, помогают. Пойду...». Собрался, а смерть его упредила. Жа-алко!
Стешка смахивает с мохнатых длиннющих ресниц влагу, незряче косится на дверь. Там Володей, там и дядя. Так звала Отласа-старшего.
Григорий чуть слышно шептал молитву, смотрел на трясущиеся от горя пальцы. Искренне жалел отца, просил для него у господа снисхождения, а тот и про покаяние молчит.